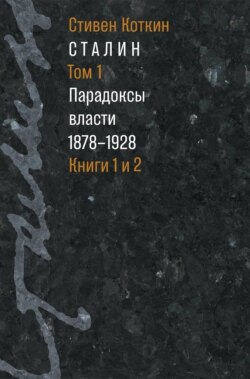Читать книгу Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2 - Стивен Коткин - Страница 4
Часть I
Двуглавый орел
ОглавлениеВо весь свой рост он возвышается над Европой и над Азией, над прошедшим и над будущим. Это – самый знаменитый и в то же время почти самый неизведанный человек в мире.
Анри Барбюс. Сталин (1935)
Российский двуглавый орел властвовал над пространствами, превышавшими территорию любого другого государства, существовавшего доселе или впоследствии. Рубежи державы охватывали не только дворцы Санкт-Петербурга и золотые купола Москвы, но и говорящие по-польски и на идиш Вильно и Варшаву, основанные немцами балтийские порты Ригу и Ревель, персидско- и тюркоязычные оазисы Бухары и Самарканда (в последнем находится гробница Тамерлана) и населенный народом айнов остров Сахалин на краю Тихого океана. В состав «России» входили как пороги и казачьи поселения на чрезвычайно плодородной Украине, так и болота и охотничьи угодья Сибири. Россия раздвинула свои границы до Арктики и Дуная, до Монгольского плато и до Германии. Преодолев и поглотив барьер Кавказа, Россия вышла на Черное и Каспийское моря и приобрела границы с Ираном и с Османской империей. Российская империя с ее изобилием православных церквей, мечетей, синагог, старообрядческих молитвенных домов, католических соборов, армянских апостольских церквей, буддийских храмов и шаманских тотемов напоминала религиозный калейдоскоп. Обширная территория империи являлась купеческим раем, воплощением которого служили степные невольничьи рынки, а впоследствии ярмарки на пересечении торговых путей в Поволжье. В то время как Османской империи были подчинены части трех материков (Европы, Азии и Африки), некоторые авторы в начале XX века объявляли, что раскинувшийся на двух материках российский империум [2] не является ни Европой, ни Азией, представляя собой третье, самодостаточное образование: Евразию. Как бы то ни было, определение, которое когда-то дал Османской державе венецианский посол при Высокой порте (Агосто Нани) – «более мир, чем государство», – в неменьшей степени было применимо и к России. И правление Сталина принесет этому миру неизмеримые потрясения, надежду и горе.
Сталин, родившийся в кавказском рыночном и ремесленном городке Гори, имел чрезвычайно скромное происхождение (его отец был сапожником, мать – прачкой и швеей), но в 1894 году его приняли в православную семинарию в Тифлисе, величайшем городе Кавказа, с тем чтобы выучить его на священника. Если бы подданный Российской империи в том году заснул и проснулся тридцать лет спустя, то его ожидало бы множество потрясений. В 1924 году с помощью устройства под названием телефон люди могли говорить друг с другом, невзирая на разделяющие их огромные расстояния. По улицам ездили безлошадные экипажи. Люди летали по небу. Рентгеновские лучи позволяли заглянуть внутрь человеческого тела. Новая физика выдумала невидимые электроны внутри атомов, а также распад атомов с выделением радиации; более того, согласно одной теории, время и пространство были искривлены и связаны друг с другом. Женщины, среди которых тоже появились ученые, щеголяли невиданными прежде модными прическами и платьями. Читатели романов погружались в причудливый поток сознания, а на многих прославленных картинах зритель не видел ничего, кроме геометрических фигур и чистых цветов [3]. В итоге войны 1914–1918 годов, получившей название Великой, всемогущий германский кайзер лишился власти, а два больших соседа-соперника России, Османская и Австро-Венгерская империи, и вовсе исчезли с карты мира. Сама Россия в основном уцелела, но ее правителем был человек подчеркнуто скромного происхождения, уроженец имперской окраины [4]. Возможно, что это обстоятельство – то, что мантия царей досталась плебею и грузину – стало бы в 1924 году самым большим потрясением для нашего воображаемого Рип ван Винкля, очнувшегося от тридцатилетнего сна.
Восхождение Сталина с имперской периферии к вершинам власти было необычным, но не уникальным. Наполеоне ди Буонапарте родился в 1769 году вторым из восьми детей на Корсике – средиземноморском острове, всего годом ранее отторгнутым Францией от Генуэзской республики; благодаря этой аннексии юный Наполеоне получил скромную привилегию обучаться во французских военных школах. Наполеон (как его называли во Франции) так и не избавился от корсиканского акцента, однако он стал генералом, а затем – к 35 годам – наследственным императором Франции. Плебей Адольф Гитлер и вовсе появился на свет за пределами страны, которую он подчинит своей воле: он был уроженцем приграничных габсбургских земель, в 1871 году не затронутых объединением Германии. В 1913 году, в 24-летнем возрасте, он перебрался из Австро-Венгрии в Мюнхен – как оказалось, как раз вовремя для того, чтобы попасть на Первую мировую войну солдатом имперской германской армии. В 1923 году за так называемый Мюнхенский пивной путч Гитлер был осужден за измену, однако немецкий судья-националист, проигнорировав соответствующий закон, воздержался от депортации подсудимого, не являвшегося гражданином Германии. Два года спустя Гитлер отказался от австрийского подданства и стал человеком без гражданства. Он приобрел его лишь в 1932 году, когда натурализовался под фиктивным предлогом (формально он был назначен «землеустроителем» в Брауншвейге, электоральной вотчине нацистской партии). В следующем году Гитлер был назначен канцлером Германии, после чего стал диктатором страны. В отличие от Гитлера или Наполеона Сталин рос бесспорным подданным своей будущей державы – Российской империи, включившей в свой состав большую часть Грузии еще за 75 лет до его рождения. И все же он совершил невероятный скачок из низов на периферии государства.
Диктатура Сталина ставит перед нами много непростых вопросов. Его власть над жизнью и смертью каждого человека на пространстве 11 часовых зон – где перед войной был достигнут пик численности населения, превышавшей 200 миллионов человек, – далеко превосходила все, чем могли похвастаться величайшие самодержцы в царской России. Истоки такой власти невозможно найти в биографии юного Сосо Джугашвили. Как мы увидим, диктатура Сталина представляла собой порождение мощных структурных сил – таких, как эволюция автократической политической системы в России, покорение Кавказа Российской империей, использование царским режимом тайной полиции, причастной к терроризму, воздушные замки европейского социалистического проекта, подпольная заговорщицкая природа большевизма (представлявшего собой зеркальное отражение репрессивного царизма), неспособность русских ультраправых установить в стране фашистский строй, несмотря на все имевшиеся к этому предпосылки, глобальное соперничество между великими державами и опустошительная мировая война. Без всего этого Сталин никогда бы даже не приблизился к власти. К этим крупномасштабным структурным факторам прибавлялись такие случайности, как отречение царя Николая II во время войны, сыгравшие на руку большевикам просчеты Александра Керенского (последнего главы Временного правительства, сменившего царя в 1917 году), действия и особенно бездействие многих конкурентов большевиков из левого лагеря, несколько ударов, перенесенных Лениным, и его преждевременная смерть в январе 1924 года, а также тщеславие и промахи соперников Сталина из числа большевиков.
Более того, следует учесть, что в молодости Джугашвили вслед за многими своими соседями мог умереть от оспы или пасть жертвой множества прочих заразных болезней, гулявших по трущобам Батума и Баку, где он вел агитацию за социалистическую революцию. Более умелая работа полиции могла бы обеспечить ему отправку на каторжные работы в серебряные рудники, где многие революционеры нашли безвременную смерть. Джугашвили мог быть повешен в 1906–1907 годах в ходе внесудебных казней в период реакции, последовавший за революцией 1905 года (в 1905–1906 годах было повешено более 1100 человек) [5]. Наконец, Джугашвили мог бы быть убит одним из своих многочисленных товарищей, которым он наставил рога. Если бы Сталин умер в детстве или юности, это бы не предотвратило мировой войны, революции, хаоса и, вероятно, авторитаризма, который бы в той или иной форме вернулся в постромановскую Россию. И все же одолевавшая этого молодого человека скромного происхождения решимость вырваться из безвестности, его хитроумие и отточенные им организационные таланты начиная с 1917 года способствовали преобразованию всего структурного пейзажа первых лет большевистской революции. Сталин жестоко, умело, неустанно выстраивал личную диктатуру в рамках большевистской диктатуры. Затем он устроил и довел до конца кровавую социалистическую перестройку всей бывшей империи, одержал победу в величайшей войне из всех, какие видело человечество, и вывел Советский Союз в эпицентр глобальной политики. Как мы увидим, биография Сталина в большей степени, чем биография любой другой исторической фигуры, включая даже Ганди или Черчилля, в конечном счете смыкается с мировой историей.
* * *
Всемирной историей движет геополитика. На облик мира в современную эпоху в большей степени, чем какая-либо другая из великих держав, оказала влияние Британская империя. С 1688 по 1815 год с британцами за глобальное господство боролись французы. Несмотря на то что Франция превосходила Британию размером территории и численностью населения, последняя в итоге взяла верх – по большей части благодаря более совершенному, небольшому фискально-военному государству [6]. К моменту окончательной победы над Наполеоном, одержанной в коалиции с другими странами, Великобритания была первой державой мира. Более того, ее усиление совпало с упадком Китая при династии Цин, благодаря чему британская мощь – политическая, военная, промышленная, культурная и фискальная – стала подлинно глобальной. Уместное определение «над ней никогда не заходит солнце», использовавшееся для описания размеров империи, сложилось применительно к Испанской империи, возникшей еще до Британской, но эти слова применялись и прилипли к последней. Однако в 1870-е годы мир, где верховодили британцы, испытал два потрясения: устроенное князем Отто фон Бисмарком объединение Германии, реализованное благодаря победе, одержанной Гельмутом фон Мольтке-старшим на поле боя, и вылившееся в молниеносное появление новой мощной державы на европейском материке; и реставрация Мэйдзи в Японии, положившая начало стремительному возвышению новой державы в Восточной Азии. На беспокойной западной границе Российской империи неожиданно возникла самая динамичная из новых мировых держав, а на ее малонаселенных восточных рубежах – самая динамичная держава в Азии. Россия вступила в новый мир. И именно в этом мире родился Сталин.
Даже тот набор атрибутов, который мы называем современностью, был следствием не какого-то неизбежного социального процесса, выхода за рамки традиций, а жестокой геополитической конкуренции, участникам которой приходилось не отставать от других великих держав в том, что касалось современного сталеплавильного производства, современных вооруженных сил и современной политической системы, опирающейся на массы, – иначе имелся риск быть раздавленным и даже превратиться в колонию [7]. Этот вызов в первую очередь был брошен консервативному истеблишменту. Всем известно, что фигура Карла Маркса, радикального немецкого журналиста и философа, не нависала ни над одной другой страной так, как над Российской империей. Но на протяжении большей части жизни Сталина над Российской империей нависала фигура другого немца – к тому же консерватора: Отто фон Бисмарка. Этот сельский помещик, родившийся в протестантской юнкерской семье из восточного Бранденбурга, учился в Геттингенском университете, вступил в Burschenschaften (студенческое братство), был известен как большой любитель выпивки и женского пола и до 1862 года не занимал никаких административных должностей, хотя и был послом в России и во Франции. Однако менее чем за десять лет он превратился в «железного канцлера» и, опираясь на Пруссию, создал новую могучую страну. Пруссия, известная как «армия в поисках нации», нашла себе нацию. В то же время этот немецкий канцлер правого толка подал пример того, как укрепить современную государственную власть, взращивая широкую политическую базу, развивая тяжелую промышленность, насаждая социальное обеспечение заключая и перезаключая всевозможные альянсы с одними амбициозными великими державами против других.
Такие политики, как Бисмарк, появляются раз в сто лет. Он умело опрокинул легионы своих противников – как в германских княжествах, так и за их пределами – и спровоцировал три стремительных, решающих, но ограниченных войны, в ходе которых сперва разбил Данию, затем Австрию, а потом и Францию, но оставил на Дунае Австро-Венгерское государство ради сохранения баланса сил. Он создавал предлоги для нападения, когда занимал господствующее положение, или хитростью побуждал противников к объявлению войны после того, как добивался их дипломатической изоляции. Он принимал меры к тому, чтобы иметь альтернативные варианты, и сталкивал их друг с другом. При этом у Бисмарка не было продуманного плана по достижению германского единства: его методом была импровизация, в какой-то мере диктовавшаяся внутриполитическими соображениями (необходимостью обуздать либералов в прусском парламенте). Но он непрерывно обращал обстоятельства и счастливые случайности себе на пользу, прорываясь сквозь структурные преграды и создавая новые реалии на низовом уровне. «Политика – не столько наука, сколько искусство, – говорил Бисмарк. – Это не предмет, которому можно научиться. К ней нужно иметь талант. Даже от самого лучшего совета не будет пользы при его неправильном исполнении» [8]. Более того, он сравнивал политику с картами, игрой в кости и другими азартными играми. «Можно быть прозорливейшим из прозорливейших и все равно в любой момент уподобиться ребенку в темноте», – отмечал Бисмарк по случаю победы в спровоцированной им в 1864 году войне с Данией [9]. Он сетовал, что это была «неблагодарная работа… Приходится считаться с множеством возможных и невозможных обстоятельств и основывать свои планы на этих расчетах». Бисмарк никогда не ссылался на добродетели – только на соображения власти и интересы. Впоследствии его стиль правления станет известен как «реальная политика»: это выражение принадлежит Августу фон Рохау (1810–1873), германскому либеральному националисту, разочарованному тем, что 1848 год не принес Германии конституцию. Изначально под «реальной политикой» понималась эффективная практическая политика, направленная на реализацию идеалистических целей. Стиль Бисмарка имел больше сходства с понятием raison d’etat: просчитанными, аморальными государственными соображениями. Место принципов занимали цели, место морали – средства [10]. Бисмарк вызывал к себе всеобщую ненависть до тех пор, пока не добился блестящих успехов, после чего он приобрел непомерную славу человека, раздавившего Францию, превратившего Австрию в вассала и объединившего Германию.
Затем Бисмарк заключил Тройственный союз с Австро-Венгрией и Италией (1882) и подписал секретный «Договор перестраховки» с Россией (1888), предусматривавший нейтралитет в случае конфликта и тем самым устранявший возможность войны на два фронта – с Францией и Россией – и подчеркивавший господство новой Германии на материке. Его таланты относились к числу скрытых. Он не обладал ни сильным голосом, ни уверенностью на трибуне и мало вращался среди публики. Более того, он не правил страной, а лишь исполнял приказы короля (а затем кайзера) Вильгельма I. В рамках этих наиважнейших взаимоотношений Бисмарк выказывал талант психолога и упорство, неустанно и умело манипулируя Вильгельмом – угрожая отставкой, прибегая к всевозможным актерским уловкам. В свою очередь, Вильгельм зарекомендовал себя усердным, внимательным и разумным монархом, достаточно мудрым для того, чтобы прислушиваться к Бисмарку в вопросах политики и поглаживать своего «железного канцлера» по распускаемым им бесчисленным перьям [11]. Бисмарк в своем стремлении стать незаменимым старался как можно сильнее запутать любые дела с тем, чтобы лишь он один мог в них разобраться (именно так он выстраивал свои «комбинации»). Во всякий момент времени он жонглировал таким количеством шаров одновременно, что не мог ни на миг остановиться, чтобы не уронить ни одного из них, несмотря на то что к уже имеющимся шарам непрерывно прибавлял новые. Следует также иметь в виду, что в распоряжении Бисмарка находилась сухопутная армия, на тот момент самая сильная в мире (а также, возможно, второй по силе флот).
Прочие подающие надежды политики со всей Европы учились у Бисмарка его примеру «политики как искусства» [12]. Вообще говоря, в глазах Лондона с его прочно утвердившимся правовым государством Бисмарк представлял собой угрозу. Но в глазах Петербурга, нуждавшегося в оплоте против левого экстремизма, Бисмарк казался спасением. С любой точки зрения осуществленное им усиление Пруссии посредством объединения Германии – без опоры на какое-либо массовое движение, без серьезного предыдущего опыта управления страной, в условиях противодействия со стороны множества грозных игроков – входит в число величайших дипломатических достижений двух последних столетий [13]. Более того, косвенным образом воздавая должное побежденному им повелителю, французскому императору Наполеону III, Бисмарк ввел в стране всеобщее избирательное право для мужчин, увязав политические успехи консерваторов с крестьянским германским национализмом с тем, чтобы обеспечить доминирование парламента. «Если бы Мефистофель влез на кафедру и стал читать Евангелие, сумел бы он вдохновить кого-нибудь своей проповедью?» – возмущалась газета проигравших немецких либералов. Более того, Бисмарк выманил у немецких консерваторов согласие на учреждение обширной системы социального обеспечения, тем самым выбив почву из-под ног и у социалистов. Еще больше грандиозности достижению Бисмарка придавало то обстоятельство, что Германия вскоре после своего объединения совершила феноменальный экономический рывок. Буквально в одночасье страна обогнала первую державу мира, Великобританию, в таких ключевых современных отраслях, как выплавка стали и химическая промышленность. После того как Великобританию поразил относительный «упадок», новый бисмарковский рейх взял курс на переустройство мирового порядка. Как отмечал один русский наблюдатель, Германия уподоблялась «громадному паровику, с чрезвычайной быстротой генерирующему избыток паров, которым нужен выход» [14]. Как мы увидим, российский истеблишмент – или по крайней мере его более способные элементы – был одержим Бисмарком. Не один, а два немца – Бисмарк и Маркс – составляли второго двуглавого орла, нависшего над Российской империей.
* * *
Личность Сталина как будто бы не представляет для нас тайны. Старая песня – отцовские побои, притеснения в православной семинарии, развившийся у него «ленинский комплекс», требовавший превзойти наставника, интерес к Ивану Грозному и последовавшее за всем этим уничтожение миллионов людей – давно потеряла всякую убедительность, даже в своих изощренных версиях, сочетающих в себе анализ русской политической культуры с изучением личности Сталина [15]. Унижения в самом деле нередко порождают жестокость, но неизвестно, в самом ли деле Сталин пережил такое травматичное детство, которое ему обычно приписывают. Несмотря на телесные недостатки и многочисленные болезни, он был обладателем живого интеллекта, стремился к самоусовершенствованию и проявлял задатки лидера. По правде говоря, он любил пошалить. «В детстве Сосо был большим шалуном, – вспоминал его товарищ Георгий Елисабедашвили. – Он любил стрелять из самочинно сделанного лука, любил бросать камни из рогатки… Помню, однажды вечером, когда стадо возвращалось из нагула, Сосо со своим самочинным луком накинулся из-под угла на стадо и мигом вонзил стрелу в мошку коровы. Корова взбесилась, стадо замешалось, пастух погнался за Сосо, Сосо исчез» [16]. Однако кузенам, знавшим молодого Сталина, удавалось поддерживать с ним связи вплоть до его смерти [17]. Кроме того, успели оставить воспоминания многие из его школьных учителей [18]. Более того, даже если его детство было совершенно несчастным, каким многие однобоко рисуют его, этот факт мало что объяснял бы в личности позднего Сталина. Не слишком нам поможет и Лев Троцкий, объявивший Сталина не более чем порождением бюрократии, «комитетчиком par excellence» – то есть предположительно более низшим существом, чем настоящий пролетарий или настоящий интеллигент (читай: Троцкий) [19]. Отец и мать Сталина родились крепостными и не получили никакого формального образования, но он появился на свет в семье целеустремленных людей, включая и его оклеветанного отца. При этом родной город Сталина, Гори, имевший репутацию глухой провинции, располагал довольно значительными возможностями в плане образования.
Авторы, на основе широкого спектра источников, ставших доступными в последние годы (включая и воспоминания, собранные и обработанные в 1930-х годах Лаврентием Берия), создавшие более свежий образ Сталина, изображают его способным и талантливым учеником. Впрочем, эти же мемуары использовались и для того, чтобы нарисовать портрет невероятного головореза, бабника и бандита-мачо живописной азиатской разновидности [20]. Это гарантирует увлекательное чтение. Помимо этого, такой подход дает несколько важных откровений. Но все-таки и этому новому образу не хватает убедительности. Да, у молодого Сталина был член, и он им пользовался. Но это не делало Сталина каким-то особенным Лотарио. И Маркс, и Энгельс прижили незаконных детей – у Маркса был ребенок от экономки, хотя его отцом великодушно объявил себя Энгельс, – но Маркс вошел в историю явно не по этой причине [21]. Саддам Хусейн в молодости писал стихи, однако этот уроженец Ирака десятилетиями был настоящим убийцей, прежде чем стать диктатором в Багдаде. Молодой Сталин был поэтом, но не был убийцей. Не был он и каким-то кавказским мафиозным крестным отцом, даже если Берия и считал, что этот образ льстит Сталину [22]. Молодого Сталина в разные моменты времени окружали небольшие группы сторонников, но постоянной группы у него так и не сложилось. Более того, все заслуги Сталина как революционера-подпольщика затмевает тот факт, что он так и не сумел создать прочной политической базы на Кавказе. Сталин не привез с собой в столицу какого-либо аналога «тикритского клана» Саддама Хусейна [23]. При трезвом рассмотрении выясняется, что молодой Сталин добился однозначно скромных успехов в том, что касается создания подпольных типографий, подстрекательства к забастовкам и организации денежных экспроприаций. Его закулисная роль в зрелищном ограблении, средь бела дня состоявшемся в 1907 году в Тифлисе – этот факт был установлен Миклошем Куном и прекрасно изложен Саймоном Себаг-Монтефиоре, – демонстрирует, что молодой Сталин был готов на все ради своего дела [24]. Но ограбление не было самоцелью. Главным было дело: установление социализма и социальной справедливости, наряду со стремлением Сталина к личному успеху. Ничто – ни девочки-подростки, ни насилие, ни дружба – не могло отвлечь его от того, что стало для него целью в жизни.
В нашей книге мы обойдемся без спекулятивных измышлений или часто встречающихся попыток заполнить лакуны в зафиксированной биографии Сталина [25]. Мы постараемся аккуратно проложить курс по морю живописных, но сомнительных рассказов. Прошлое будущего Сталина – его подпольная революционная деятельность на Кавказе – пострадало из-за лжи советской пропаганды, злословия соперников и пропажи документов [26]. Тем не менее мы можем сказать наверняка, что предъявлявшиеся Сталину обвинения в особенном коварстве, с которым он предавал товарищей, смехотворны в контексте того, что творилось в рядах социал-демократов. Сталин был властным (таким же властным, как Ленин и Троцкий) и вспыльчивым человеком (таким же вспыльчивым, как Ленин и Троцкий). Его память о мнимых обидах является практически штампом в кавказской культуре с ее обычаем кровной вражды, но в то же время эта черта часто встречается и у людей, склонных к нарциссизму (как опять же можно назвать многих профессиональных революционеров). Да, молодому Сталину в большей степени, чем многим другим, была присуща склонность постоянно отталкивать от себя товарищей своими претензиями на лидерство, не зависевшими от исполнявшихся им формальных поручений и его формальных достижений; после этих стычек он неизменно считал себя пострадавшей стороной. Сталин часто проявлял общительность, но в то же время бывал угрюмым и отчужденным, что делало его подозрительным. В целом он тянулся к таким же людям, как и он сам: парвеню-интеллигентам из низов общества. (Как впоследствии писал один из его врагов, «Окружал он себя исключительно лицами, которые преклонялись перед ним и подчинялись во всем его авторитету» [27].) Невзирая на революционное безумие 1905–1908 годов, молодой Сталин в основном занимался написанием работ, которые издавались небольшими тиражами. Но они были нелегальными и он постоянно находился в бегах, спасаясь от полиции, висевшей у него на хвосте во всех его стремительных перемещениях между Тифлисом, Батумом, Чиатурой, Баку и прочими местами на Кавказе, Таммерфорсом (в русской Финляндии), Лондоном, Стокгольмом, Берлином, Веной и прочими местами в Европе, Вологдой на севере европейской России и Туруханском в Восточной Сибири [28]. Хотя будущий Сталин отличался тем, что никогда не пытался эмигрировать, его ранняя жизнь – в промежутке между 1901 и 1917 годами включавшая примерно семь лет, проведенных в сибирской ссылке и тюрьме, и несколько недолгих поездок за границу, – была более-менее типична для революционного подполья. И до, и особенно после 1908 года он жил в нужде, просил у всех денег, лелеял обиды и большую часть времени, подобно прочим заключенным и ссыльным, проводил в смертельной скуке.
Человек, впоследствии ставший Сталиным, был детищем как русских имперских гарнизонов в Грузии, ради которых его отец перебрался в Гори и стал сапожником, так и имперских администраторов и церковников: насаждавшаяся ими русификация позволила ему получить образование, но в то же время невольно дала толчок к затронувшему Грузию в конце XIX века национальному пробуждению, которое тоже оказало на него мощное влияние [29]. Впоследствии маленький сын Сталина поведает своей старшей сестре, что их отец в молодости был грузином – и это было правдой. «Цвети, о Грузия моя! / Пусть мир царит в родном краю! / А вы учебою, друзья, / Прославьте родину свою!», – писал 17-летний Джугашвили в одном из своих ранних романтических стихотворений на грузинском («Утро») [30]. На протяжении первых 29 лет жизни он публиковался только на грузинском языке. «Он исключительно чисто говорил по-грузински, – вспоминал один человек, встречавшийся с ним в 1900 году. – У него был четкий выговор, а в беседах он обнаруживал живое чувство юмора» [31]. Вообще говоря, Сталин оказался плохим грузином, по крайней мере по стереотипным критериям: он не был рабом чести, не отличался бескомпромиссной верностью своим друзьям и семье, не помнил старых долгов [32]. В то же время Грузия была пестрым в языковом отношении краем и будущий Сталин владел разговорным армянским. Кроме того, он увлекался эсперанто (искусственно созданным международным языком), учил немецкий (родной язык левых), но так и не овладел им, и пытался читать Платона на греческом. Но в первую очередь он освоил язык империи – русский. В итоге миру явился молодой человек, наслаждавшийся и афоризмами национального грузинского поэта Шота Руставели («Недруга опасней близкий, оказавшийся врагом») [33], и удивительными, меланхоличными произведениями Антона Чехова, изобразившего в пьесе «Вишневый сад» (1903), как вырубают деревья в саду мелкого дворянина (его имение и усадебный дом были куплены вульгарным предпринимателем). В то же время Сталин увлекался историей Российской империи и Грузии.
Среди русских революционеров-большевиков Сталин выделялся не только грузинским происхождением, но и колоссальным стремлением к самосовершенствованию. Он поглощал книги, как и положено марксисту – с тем, чтобы изменить мир. Возможно, ничто не обращает на себя большее внимание, чем его крайнее политическое сектантство (выделявшееся даже на фоне культуры, в рамках которой до трети приверженцев господствующей православной веры были раскольниками). В молодые годы Сталин стал марксистом ленинского толка, воевавшим не только с царизмом, но и с прочими революционными фракциями [34]. Впрочем, как мы подробнее покажем ниже, в конечном счете важнейший фактор, сформировавший личность Сталина и определивший облик его правления, включал нечто, с чем Сталин лишь мельком столкнулся в юности, – а именно внутренние механизмы, императивы и недостатки российского имперского государства и самодержавия. Масштабность этого сюжета позволяет рассмотреть пору юности Сталина в верной перспективе. Но в то же время она создает условия для того, чтобы в полной мере постичь масштабы его последующего влияния на страну.
2
С. Коткин имеет в виду российское государство, существовавшее на определенной территории в различные периоды истории – Россия при царском правлении, СССР, современная страна. – Прим. науч. ред.
3
Kern, Culture of Time and Space (Полностью ссылки на источники приводятся в библиографии).
4
Rieber, “Stalin: Man of the Borderlands.”
5
Положение о военно-полевых судах; Rawson, “The Death Penalty in Tsarist Russia.”
6
Brewer, Sinews of Power.
7
Kotkin, “Modern Times.”
8
Pflanze, Bismarck, I: 82. То, что Бисмарку принадлежит знаменитое выражение «политика – это искусство возможного», которое якобы услышал от него Мейер фон Вальдек 11 августа 1867 г., не подтверждается прямыми источниками. (Оно цитируется в: Amelung, Bismarck-Worte; см. также: Keyes, Quote Verifier.) Но эта идея проходит красной нитью через все зафиксированные размышления Бисмарка.
9
Pflanze, Bismarck, I: 242.
10
Ibid., I: 81–5; Steinberg, Bismarck, 130–2.
11
Steinberg, Bismarck, 198.
12
Бисмарку была свойственна сверхъестественная неспособность мирно почивать на лаврах, и его неугомонность часто создавала ему ненужные неприятности, так как его беспрестанные тактические хитрости и уловки сокращали ему пространство для маневра. Самые большие проблемы ему принесла беспричинная борьба с немецкими католиками (Kulturkampf) – обременительное и сомнительное предприятие: Waller, Bismarck at the Crossroads.
13
Steinberg, Bismarck, 184, 241 (ссылка на Kolnische Zeitung).
14
Слова князя С. Н. Трубецкого, цит. по: Рябушинский. Великая Россия. Т. 1. С. 97.
15
Tucker, Stalin as Revolutionary. Критику этого подхода см. в: Suny, “Beyond Psychohistory.” Главным источником сведений о тумаках для сына, на которые не скупился пьяный Бесо, является: Iremashvili, Stalin und die Tragodie. Иремашвили, тоже уроженец Гори, учился со Сталиным в тифлисской семинарии, стал меньшевиком, а в октябре 1921 г. был выслан в Германию вместе с тремя дюжинами своих товарищей. Его книга представляет собой первый мемуарный рассказ о детстве Сталина и очерк психологии будущего диктатора. Понятно, что Такер в первом томе своей работы обращается к психологии отчасти с целью скомпенсировать недоступность источников. Во втором томе работы Такера Сталин изображается параноидальным правителем, отождествляющим себя с другими параноидальными правителями – главным образом с Иваном Грозным – и отбирающим из русской политической культуры элементы параноидального стиля правления: Tucker, Stalin in Power. Такер умер в 2010 г., не успев дописать запланированного третьего, финального тома своего труда.
16
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 665. Л. 14; Музей Сталина, 1955, 146, 1–11 (рассказ Елисабедашвили); Dawrichewy, Ah: ce qu’on, 82–4. Сталин исчез – но потом вернулся и коллективизировал десятки миллионов голов скота.
17
«В старости он посылал им и кое-кому из старых товарищей пачки денег», – отмечал в отношении Сталина один из исследователей: Rayfield, Stalin and His Hangmen, 8.
18
В сентябре 1931 г., узнав о том, что его бывший семинарский преподаватель истории, 73-летний Николай Махатадзе, сидит в Метехской тюрьме в Тбилиси, Сталин приказал Берии освободить его: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 76. Л. 113.
19
Троцкий. Сталин. Т. 1. С. 110. Исаак Дойчер, биограф не только Троцкого, но и Сталина, вслед за Троцким помещает Сталина на «полукочевую деклассированную обочину», то есть ставит его ниже настоящего интеллигента: Deutscher, Stalin, 24–6.
20
Montefiore, Young Stalin. Книга Монтефиоре читается как захватывающий роман.
21
Wheen, Karl Marx.
22
Montefiore, Young Stalin, 10.
23
Лишь последующий переезд в Москву Лаврентия Берии состоялся исключительно по воле Сталина, но Берия, в отличие от Сталина, сколотил на Кавказе громадный аппарат верных ему людей, которых – тоже в отличие от Сталина – он забрал с собой в Москву и внедрил во все сферы советского государства. [Саддам Хусейн был родом из Тикрита, города на севере Ирака. Придя к власти, окружил себя выходцами из этого города. Оппозиция утверждала, что страной правит «тикритская группировка». – Прим. науч. ред.]
24
Kun, Unknown Portrait, 74–5; Montefiore, Young Stalin, 3–16. В том, что касается ограбления на большой дороге, Эмиль Людвиг в своем интервью 1931 г. со Сталиным отмечал: «это был единственный вопрос, на который он не ответил – если не считать того, что он дал ответ, обойдя этот вопрос стороной»: Из беседы, в: Большевик. С. 42–43 [цит. в обратном переводе с англ.].
25
Некоторые из наиболее выдающихся мастеров биографического жанра считают заполнение лакун необходимым. См., например, рассуждения Гермионы Ли в: Lee, Virginia Woolf’s Nose.
26
В частности, утрачен архив грузинских социал-демократов: Van Ree, “The Stalinist Self,”263, n18 (где автор ссылается на личное сообщение Стивена Джонса, август 2006 г.).
27
Арсенидзе. Из воспоминаний о Сталине. С. 219. См. также слова Бориса Иванова, товарища Сталина по сибирской ссылке, приведенные в: Tucker, Stalin as Revolutionary, 160–1.
28
Согласно анкете, заполненной Сталиным на IV конференции Украинской коммунистической партии в марте 1920 г., с 1902 по 1913 г. у него насчитывалось 8 арестов, 7 ссылок и 6 побегов. В том же году, в интервью для периодического издания шведских социал-демократов, Сталин утверждал, что у него было 7 арестов, 6 ссылок и 5 побегов. Эти несоответствия стали источником путаницы в его официальных биографиях: Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 7. Это издание (2004 г.) имеет некоторые отличия от предыдущего (ОЛМА-пресс, 2002).
29
Школьные годы молодого Сталина совпали с царствованием Александра III (1881–1894), когда все начальные школы империи были переданы в ведение Священного синода с целью еще больше усилить влияние православной церкви в области образования: Исторический очерк развития церковных школ.
30
Rayfield, “Stalin as Poet”; И. Сталин. Стихи. М., 1997. С. 2.
31
De Lon, “Stalin and Social Democracy,” 169.
32
Service, Stalin, 27; King, Ghost of Freedom, 183–4.
33
Похлебкин. Великий псевдоним. С. 76; Iremashvili, Stalin und die Tragodie, 18.
34
Островский. Кто стоял за спиной Сталина?; РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 10. Д. 273; Rieber, “Stalin as Georgian: the Formative Years,” 18–44; Jones, Socialism. Список псевдонимов и кличек Сталина можно найти в: Smith, Young Stalin, 453–4. Список всех его «девушек» – к 1918 г. насчитывавший десять человек, не считая двух его жен, – содержится в: Montefiore, Young Stalin, xxviii.