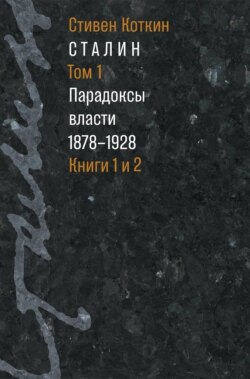Читать книгу Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2 - Стивен Коткин - Страница 14
Часть I
Двуглавый орел
Глава 2
Ученик Ладо
В подполье
ОглавлениеНелегальная социалистическая агитация едва ли сколько-нибудь заметно выделялась на фоне распространенных на Кавказе петушиных боев, бандитизма и проституции (как сексуальной, так и политической), по крайней мере на первых порах. Уже в 1900 году подавляющее большинство жителей Тифлиса, находившихся под надзором полиции, составляли армяне, за которыми следили, опасаясь их связей с соплеменниками, проживавшими за границей, в Османской империи. Но всего несколькими годами ранее персонажами большинства полицейских досье на «политических» подозреваемых были грузины и социал-демократы – таковых насчитывалось 238, включая Джугашвили [200]. 21 марта 1901 года полиция совершила налет на Тифлисскую обсерваторию. Хотя Джугашвили отсутствовал, когда полиция обыскивала имущество, принадлежавшее ему и другим служащим, возможно, что он находился неподалеку, был выслежен и тоже подвергся личному обыску [201]. Но даже если дело обстояло так, полиция не арестовала его – возможно потому, что хотела продолжить за ним слежку в надежде выйти на его товарищей. Но, как бы то ни было, метеорологическая карьера будущего Сталина на этом закончилась. Он навсегда ушел в подполье.
Отныне у Джугашвили не имелось никаких средств к существованию, кроме частных уроков, которые он давал время от времени, и ему приходилось жить за счет коллег, подруг и пролетариев, которых он желал возглавить. Он погрузился в подпольную деятельность – такую, как устройство конспиративных квартир и подпольных типографий, полезных при проведении забастовок и первомайских демонстраций. Социалисты всего мира провозгласили 1 мая праздником в память о состоявшихся в 1886 году в Чикаго волнениях на Хаймаркет, когда полиция открыла огонь по бастующим, требовавшим восьмичасового рабочего дня. В Тифлисе первомайская демонстрация под красными флагами впервые состоялась в 1898 году по инициативе железнодорожных рабочих. В первых трех демонстрациях, прошедших за пределами города, приняло участие 25 (в 1898 году), 75 (в 1899 году) и 400 (в 1900 году) человек. В преддверии 1 мая 1901 года Джугашвили принял участие в организации смелого, рискованного шествия прямо по проспекту Головина, в самом центре Тифлиса. Он вел агитацию в Главных железнодорожных мастерских Тифлиса, основном месте сосредоточения рабочих в городе. Царская полиция произвела превентивные аресты и бросила на рабочих конных казаков, вооруженных шашками и нагайками, но им навстречу с криками «Долой самодержавие!» вышли не менее двух тысяч рабочих и зевак. В ходе сорокапятиминутной схватки, во время которой противники сходились врукопашную, улицы кавказской столицы обагрились кровью [202].
Царская полиция ссылала русских социал-демократов за революционную деятельность на Кавказ – где они, естественно, помогали раздувать революционный пожар – и Джугашвили, в частности, свел знакомство с Михаилом Калининым [203]. Но образцом для Джугашвили и ключевым звеном, связывавшим его с социал-демократами Российской империи, оставался 26-летний воинственный Кецховели. Находясь в бакинском подполье, Ладо все-таки основал издание на грузинском языке, ставшее конкурентом «Квали» – «Брдзола» («Борьба»), агрессивный листок, который начал выходить в сентябре 1901 года. Имея в виду кровавые столкновения в Тифлисе на 1 мая 1901 года, автор анонимной статьи в «Брдзоле» за ноябрь-декабрь 1901 года вызывающе заявлял, что «жертвы, приносимые нами сегодня в уличных демонстрациях, сторицей будут возмещены нам», добавляя к этому: «Каждый павший в борьбе или вырванный из нашего лагеря [арестами] борец подымает сотни новых борцов» [204]. Подпольная типография, организованная Кецховели в Баку вместе с Авелем Енукидзе, Леонидом Красиным и другими социал-демократами, была спрятана в мусульманском квартале города и носила прозвище Нина (русский вариант имени Нино, святой покровительницы Грузии). Кроме того, в ней перепечатывалась недавно основанная эмигрантами-марксистами русскоязычная газета «Искра», оригинальные номера которой переправлялись из Центральной Европы в Баку через иранский Табриз на лошадях [205]. Очень скоро «Нина» стала крупнейшей подпольной социал-демократической типографией во всей Российской империи и царская полиция не могла с ней справиться в течение долгого времени (с 1901 по 1907 год) [206]. Именно благодаря типографии «Нина», а также «Брдзоле» молодой Джугашвили познакомился с идеями Ленина, написавшего много гневных (анонимных) передовиц для тринадцати номеров «Искры», вышедших до конца 1901 года [207].
Кецховели в обход Жордании дал Джугашвили возможность прикоснуться к пульсу русской социал-демократии, что помогло ему стать сведущим марксистом и воинственным уличным агитатором. Эти зерна упали на почву уже глубоко укоренившейся в Джугашвили склонности к самообразованию и его искреннего стремления просвещать массы. Впрочем, личный опыт заставлял Джугашвили сетовать на то, что рабочие сплошь и рядом не ценят значения учебы и самосовершенствования. На состоявшемся 11 ноября 1901 года заседании только что созданного Тифлисского комитета Российской социал-демократической рабочей партии он солидаризовался не с рабочими, а с представителями полуинтеллигенции – то есть такими же людьми, как он сам и Ладо. Он указывал, что прием рабочих в партию несовместим с требованиями «конспирации» и повлечет за собой аресты. Ленин отстаивал эту точку зрения на страницах «Искры». Кроме того, он написал охватывавшую широкий круг вопросов брошюру «Что делать?» (март 1902 года), в которой защищался от резких нападок со стороны других марксистов-«искровцев», которым подвергся в сентябре 1901 года. Позиция Ленина, выступавшего за то, чтобы партия опиралась на интеллигенцию, вскоре привела к расколу в рядах «искровцев» [208]. Впрочем, на заседании Тифлисского комитета в ноябре 1901 года большинство кавказских социал-демократов проголосовало за прием рабочих в партию, вопреки проленинским призывам Джугашвили [209]. Одновременно Тифлисский комитет решил отправить Джугашвили в черноморский порт Батум, чтобы вести там агитацию среди рабочих [210].
Это было весьма ответственное назначение. Портовый город Батум, находившийся всего в двенадцати милях от османской границы, был отобран у турок вместе с остальной исламской Аджарией в ходе войны 1877–1878 годов, а после того, как сюда пришла построенная Россией Закавказская железная дорога, превратился в терминал для вывоза российской нефти с Каспийского моря. Велось строительство самого длинного в мире нефтепровода из Баку в Батум (он открылся в 1907 году), а финансировавшие его постройку братья Нобель из Швеции, прославившиеся изобретением динамита, знаменитые французские банкиры братья Ротшильд и армянский магнат Александр Манташьян (г. р. 1842), известный под русифицированной фамилией Манташев, вознамерились покончить с почти абсолютной монополией американского концерна Standard Oil на поставки керосина в Европу [211]. Джугашвили тоже собирался воспользоваться нефтяным бумом, но в леворадикальных целях. (Вскоре туда по морю из Марселя начнется доставка «Искры» и прочей русскоязычной марксистской литературы.) В Батуме уже существовали «воскресные школы» для рабочих, созданные Николозом (Карло) Чхеидзе (г. р. 1864), одним из основателей «Третьей группы», и Исидором Рамишвили (г. р. 1859) – оба они были близкими товарищами Ноя Жордании.
Юный Джугашвили окунулся в рабочую среду, где он выступал «без ораторского красноречия», как впоследствии вспоминал другой грузин, испытывавший к нему враждебность. – «Говорил он грубо, резко и в этой грубости чувствовалась энергия, в этих словах ощущалась сила, настойчивость. Говорил он часть с сарказмом, с иронией», но затем «извинялся, заявляя, что говорит языком пролетариев, а пролетарии ведь не обучены деликатным манерам и аристократическому краснобайству» [212]. Джугашвили в самом деле стал своим среди рабочих, когда он был по знакомству нанят в нефтяную компанию Ротшильдов. 25 февраля 1902 года руководство компании в условиях снижения спроса на ее продукцию уволило 389 (из примерно 900) рабочих с выплатой им двухнедельного оклада, что два дня спустя привело к всеобщей забастовке [213]. Власти произвели массовые аресты. Командующий войсками на Кавказе втайне признавался местным губернаторам, что социал-демократическая «пропаганда» падает на «подходящую почву» из-за ужасающих условий, в которых рабочим приходилось жить и трудиться [214]. Более того, политика депортации протестующих рабочих в их родные деревни лишь усиливала бунтарские настроения в грузинской деревне [215]. 9 марта толпа, вооруженная булыжниками, попыталась освободить из пересыльной тюрьмы товарищей, ожидавших депортации. «Братья, не бойтесь, – кричал им из тюрьмы один из заключенных, – они стрелять не могут, ради бога освободите нас». Полиция открыла огонь, убив не менее четырнадцати человек [216].
«Батумская резня» вызвала отголоски по всей Российской империи, но для Джугашвили – распространявшего подстрекательские листовки – ее итогом 5 апреля 1901 года стал арест. В полицейском донесении он был назван «учителем рабочих», «не имевшим конкретного занятия и определенного места жительства» [217]. Неясно, оказал ли Джугашвили какое-либо влияние на распространение воинственных настроений среди рабочих. Но его обвиняли в подстрекательстве «к неповиновению правительству и власти верховной» [218]. Кроме того, батумские события имели своим следствием глубокую враждебность к Джугашвили, со стороны социал-демократических кругов Кавказа. Тифлисский комитет прислал ему на замену Давида (Мохеве) Хартишвили. В Тифлисе Мохеве указывал, что лишь рабочие имеют право на полноценное членство в Тифлисском комитете, отказывая в таком статусе представителям интеллигенции (таким, как Джугашвили). Оказавшись в Батуме, Мохеве обвинил арестованного Джугашвили в том, что тот сознательно спровоцировал побоище [219]. Однако, пока Джугашвили находился в тюрьме, его батумские сторонники не желали подчиняться Мохеве. Согласно полицейскому докладу, составленному по донесениям осведомителей, «деспотизм Джугашвили многих, наконец, возмутил и в организации произошел раскол» [220]. Именно во время этого заключения Джугашвили начал регулярно пользоваться псевдонимом Коба, по имени «борца с несправедливостью» [221]. Его поведение разозлило членов Тифлисского комитета. Скорее всего, они пришли бы в еще большую ярость, если бы знали, что будущий Сталин, в 1902–1903 годах томясь в Батумской следственной тюрьме, дважды обращался к кавказскому генерал-губернатору с просьбой об освобождении, ссылаясь на «Все усиливающийся удушливый кашель и беспомощное положение состарившейся матери моей, оставленной мужем вот уже двенадцать лет и видящей во мне единственную опору в жизни» [222]. (Кеке в январе 1903 года тоже обратилась к генерал-губернатору с прошением об освобождении ее сына.) В случаях, когда подобное пресмыкательство становилось известным, оно вполне могло испортить революционеру репутацию. Тюремный врач осмотрел Джугашвили, но жандармерия не пожелала проявлять милосердие [223]. Через пятнадцать месяцев после своего ареста, в июле 1903 года, Коба Джугашвили в административном порядке был приговорен к трехлетней ссылке в Бурятию – область в Восточной Сибири с монголоязычным населением.
В ноябре 1903 года будущий Сталин за решеткой своего телячьего вагона, вероятно, впервые видел настоящую зиму – покрытую снегом землю, скованные льдом реки. Коба-мститель, грузин, попавший в Сибирь, едва не замерз насмерть во время своей первой попытки побега. Но уже в январе 1904 года он сумел улизнуть от начальника полиции в своей деревне, преодолеть сорок миль до железной дороги и нелегально вернуться в Тифлис [224]. Историю своего побега впоследствии он излагал в трех разных вариантах; согласно одному из них, его подвез курьер, которого он напоил водкой. На самом же деле будущий Сталин, по-видимому, воспользовался реальным или поддельным жандармским удостоверением личности – что лишь усугубило подозрения, вызванные его скорым побегом. (Не был ли он завербован полицией?) [225] Пока он отсутствовал, в Тифлисе прошел съезд, на котором состоялось объединение социал-демократов Южного Кавказа и был создан «комитет союза» в составе девяти членов; Джугашвили был кооптирован в него [226]. Тем не менее его бывший батумский комитет не желал иметь с ним дела. Его имя ассоциировалось с пролитой полицией кровью и с произошедшим там политическим расколом, а после его скорого возвращения ему не доверяли как возможному агенту-провокатору [227]. Находясь в розыске, он вел кочевой образ жизни: вернулся в Гори (где добыл новые поддельные документы), оттуда в Батум и снова в Тифлис. 22-летняя Наташа Киртава-Сихарулидзе, его бывшая квартирная хозяйка и любовница, с которой он жил в батумском подполье, не пожелала ехать с ним в Тифлис и за это получила от него порцию брани [228]. Полицейский надзор в столице Кавказа был хорошо налажен и Джугашвили менял место жительства не менее восьми раз в месяц. Он снова встретился с Львом Розенфельдом, больше известным под фамилией Каменев, и тот помог ему найти убежище. Одна из явочных квартир принадлежала Сергею Аллилуеву, опытному машинисту, высланному в Тифлис, нашедшему работу в железнодорожных мастерских и женившемуся. Дом Аллилуева (будущего второго тестя Сталина) на окраине Тифлиса превратился в место, где собирались социал-демократы и где могли найти убежище агитаторы, которым на какое-то время удавалось избежать ареста и ссылки [229].
Кроме того, Каменев дал Сталину экземпляр книги Макиавелли «Государь» в переводе на русский (1869), хотя этот итальянский политический теоретик едва ли был нужен русским революционерам [230]. Сергей Нечаев (1847–1882), сын крепостного и основатель тайного общества «Народная расправа», в 1871 году заявил: «Нравственно все, что способствует торжеству революции, безнравственно все, что мешает ему» [231].
* * *
Так под влиянием Ладо начался путь будущего диктатора в революцию; эти годы (1898–1903) вместили в себя его работу в качестве агитатора и просветителя рабочих, выбор кровавой конфронтационной стратегии при проведении первомайской демонстрации в Тифлисе, создание нелегальной марксистской типографии, соперничавшей с легальной, обвинения в провоцировании полицейской резни и в расколе партии в Батуме, долгое и тягостное тюремное заключение на западе Грузии, тайное пресмыкательство перед кавказским генерал-губернатором, недолгую ссылку в морозной Сибири, подозрения в сотрудничестве с полицией, жизнь в бегах. Джугашвили, этот набожный мальчик из Гори, почти в мгновение ока перешел от проноса книг Виктора Гюго в Тифлисскую семинарию к участию – пусть даже на абсолютно вторых ролях – в глобальном социалистическом движении. Причиной этого главным образом была не какая-то присущая Кавказу культура беззакония, а царившие в Российской империи глубочайшая несправедливость и репрессии. Юные горячие головы с готовностью вступали в открытое противоборство с режимом, воображая, что они измеряют глубины непреклонности самодержавия. Однако вскоре этот воинственный, рискованный подход был взят на вооружение даже теми социалистами-марксистами, которые долго выступали против этого – такими людьми, как Жордания и Джибладзе с их журналом «Квали». Царская политическая система и условия, сложившиеся в империи, подталкивали к воинственности. На Кавказе, как и в империи в целом, левые обычно перескакивали этап агитации за создание профсоюзов – которые оставались в России под запретом намного дольше, чем в Западной Европе, – и переходили сразу к насильственному свержению репрессивного строя [232].
Даже официальные круги выражали озабоченность (во внутренней переписке) существованием мощных источников бунтарских настроений: жестокость фабрично-заводского режима переступала всякие пределы; помещики и их управляющие обращались с освобожденными крестьянами как с рабами; при этом любые попытки исправить эту ситуацию преследовались как измена [233]. «Сперва ты убеждаешься в том, что существующие условия негодны и несправедливы, – впоследствии убедительно объяснял Сталин. – Потом ты решаешь сделать все, что в твоих силах, чтобы их исправить. При царском режиме любая попытка чем-нибудь реально помочь народу ставила тебя вне закона; тебя начинали преследовать и травить как революционера» [234]. Если жизнь при царизме сделала его, как и многих других молодых людей, уличным бойцом-революционером, то Джугашвили в то же время подавал себя как просветителя – хотя на тот момент он занимался просветительством почти исключительно в устной форме, – а также как изгоя и аутсайдера, выскочку, бросившего вызов не только царской полиции, но и непонятливому революционному истеблишменту во главе с Жорданией [235]. Стремясь встать во главе протестующих рабочих, Джугашвили достиг лишь частичного успеха. Тем не менее он проявил себя мастером по созданию сплоченных групп молодых людей, подобных ему самому. Как вспоминал один враждебно настроенный грузин-эмигрант, «От всех других большевиков Коба отличался безусловно большей энергией, неустанной трудоспособностью, непреодолимой страстью к властвованию, а главное своим огромным и своеобразным организаторским талантом», нацеленным на воспитание «преданных ему людей, при посредстве которых стремился <…> держать всю организацию в своих руках» [236].
Однако прежде чем Джугашвили обрел самостоятельность, образцом отважного профессионального революционера – сражающегося с несправедливостью, живущего, проявляя чудеса изворотливости, в подполье, оставляющего с носом царскую полицию – для него служил Ладо Кецховели [237]. Леонид Красин называл Ладо организационным гением. Сергей Аллилуев считал Ладо самой притягательной личностью во всем кавказском социалистическом движении. Тем не менее весной 1902 года издание «Брдзолы» было прекращено после выхода всего четырех номеров, вслед за обширными арестами среди бакинских социал-демократов. (Вскоре после этого был закрыт и соперничавший с ней «Квали».) В сентябре 1902 года Кецховели тоже был арестован и посажен в Метехскую тюрьму в Тифлисе. Не исключено, что Ладо, расстроенный арестами товарищей, сам выдал себя, назвав свое настоящее имя во время полицейского обыска в квартире одного из его товарищей. Ладо, стоявший у огромного окна тюремной камеры и перекликавшийся с другими заключенными и прохожими, «бунтарь», «вызывавший страх и ненависть» у тюремной администрации, едва ли не ежедневно изводил тюремную охрану. Предпринятая им попытка передать на волю записку, возможно, привела к аресту Авеля Енукидзе. В августе 1903 года, когда Ладо отказался отойти от окна, один из стражников после предупреждения выстрелил в него через окно, и 27-летний Ладо был убит [238]. Рассказывали, что Ладо вызывающе кричал «Долой самодержавие!». Похоже, он был готов и даже желал умереть за дело революции.
Впоследствии Сталин не стремился уничтожить память о независимых революционных подвигах Ладо и о его существовании, хотя из истории были вычеркнуты почти все в то или иное время каким-либо образом связанные с диктатором [239]. (Дом, в котором родился Ладо, фигурировал в киножурналах о Советской Грузии [240].) В этом отношении свою роль, несомненно, сыграла ранняя мученическая смерть Ладо. Но это обстоятельство напоминает нам о том, что и Иосифа Джугашвили могла ожидать та же судьба, которая постигла его первого наставника: безвременная смерть в царской тюрьме.
200
Jones, Socialism, 70, 99.
201
Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 161 (ссылка на ГФ ИМЛ. Ф. 8. Оп. 2. Ч. 1. Д. 15. Л. 245: Н. Л. Домбровский).
202
Ладо Кецховели. С. 24; Jones, Socialism, 100–1; Tutaev, Alliluyev Memoirs, 49–51.
203
Кроме того, в 1900 г. Сталин познакомился в Тифлисе с 32-летним Виктором Курнатовским, еще одним видным деятелем раннего революционного движения. Курнатовский был знаком с Лениным: Medvedev, Let History Judge, 30.
204
В 1938 г. Берия приписал авторство этой статьи Сталину и Кецховели. Впоследствии автором статьи, переведенной на русский как «Российская социал-демократическая партия и ее ближайшие задачи», был объявлен один Сталин: Сталин. Сочинения. Т. 1. С. 11–31, на с. 27; Берия, Бройдо. Ладо Кецховели. С. 17–33. Кроме того, Сталин неправомерно претендовал на авторство первой (анонимной) передовицы «Брдзолы»: Сталин. Сочинения. Т. 1. С. 4–9; Deutscher, Stalin, 56–7; Jones, Socialism, 315.
205
Подпольная типография «Искра» в Баку (Материалы Вано Стуруа). С. 137–138; Енукидзе. Наши подпольные типографии на Кавказе. С. 24; В. Кецховели. Друзья и соратники товарища Сталина. С. 75–86; Лелашвили. Ладо Кецховели. С. 87–90; Jones, Socialism, 72–3. Существуют указания на то, что царская тайная полиция выплачивала премии за ликвидацию революционных типографий – что вело к преувеличению их численности, – но один из начальников тайной полиции утверждал, что он ликвидировал десять таких типографий и ничего не получил за это: Мартынов. Моя служба. С. 100, 313–314.
206
Макеев. Бакинская подпольная типография «Нина» (1901–1905). Т. 17. С. 90–109; Аренштейн. Типография ленинской «Искры» в Баку; Налбандян. «Искра» и типография «Нина» в Баку. Т. 24. С. 3–30; Саркисов. Бакинская типография ленинской «Искры».
207
Фаерман. Транспортировка «Искры» из-за границы и распространение ее в России в 1901–1903 гг. С. 54–92; Королева. Деятельность В. И. Ленина по организации доставки «Искры» в Россию (декабрь 1900 г. – ноябрь 1903 г.); Подпольные типографии ленинской «Искры» в России; В. Кожевникова. Годы старой «Искры».
208
Lih, Lenin Rediscovered; Carr, Bolshevik Revolution, I: 11–22; Ulam, The Bolsheviks, 160–216.
209
Аркомед. Рабочее движение. С. 81–84, на с. 84; Талаквадзе. К истории коммунистической партии Грузии. Т. 1. С. 62; Rieber, “Stalin as Georgian,” 39; Талаквадзе. К истории коммунистической партии Грузии. Т. 1. С. 62–63; Jones, Socialism, 106; van Ree, “Stalinist Self,” 267 (ссылка на ГАРФ. Ф. 102. Оп. 199. Д. 175. Л. 93). Судя по всему, возражения Сталина относительно приема рабочих в партию, выдвинутые в ноябре 1901 г., были спровоцированы выступлением Аркомеда (настоящее имя – С. А. Караджан). Первое издание книги Аркомеда вышло в 1910 г., когда он находился в эмиграции, но в издании 1923 г. (отличающемся от первого лишь добавлением ряда примечаний), вышедшем в Советском Союзе, он сумел ловко выступить с критикой в адрес Сталина, не называя его по имени.
210
РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 10. Д. 273, 292. Заявления врагов Сталина, будто партийный суд изгнал его из Тифлисского комитета за интриги против Сильвы Джибладзе, не подтверждаются дошедшими до нас данными полицейского надзора, в которых отмечается, что Джугашвили не присутствовал на заседании Тифлисского комитета 25 ноября 1901 г., но ничего не говорится ни о каком исключении. Собственно говоря, Джугашвили, судя по всему, был кооптирован в Тифлисский комитет в ноябре 1901 г. (в качестве одного из девяти его членов): Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 169–173. О мнимом исключении см.: Вакар. Сталин; Jordania, “Staline, L’Écho de la lutte,” 3–4; Уратадзе. Воспоминания. С. 67. Особенно резкие претензии к Сталину выдвигал Сильва Джибладзе. В 1921 г., после того как большевистские силы вновь подчинили себе Кавказ, Джибладзе не отправился в эмиграцию, намереваясь организовать меньшевистское подполье. Он скоропостижно умер в феврале 1922 г., судя по всему, по причине слабого здоровья; его товарищи забрали его тело из «конспиративной квартиры», но оно было конфисковано большевистской тайной полицией Тифлиса. Утверждалось, что к этому был причастен Берия (который в то время служил в грузинской ЧК, возглавив ее в ноябре 1922 г.). Где находится могила Джибладзе, если она вообще существует, неизвестно: Уратадзе. Воспоминания. С. 278.
211
Tolf, The Russian Rockefellers. Манташев родился в Тифлисе и вырос в иранском Табризе: Эсадзе. Историческая записка об управлении Кавказом; Mostashari, On the Religious Frontier.
212
Арсенидзе. Из воспоминаний о Сталине. С. 220–221.
213
Незадолго до того, в новогодние дни 1902 г., на механическом заводе произошел пожар, за которым последовала сперва небольшая, а затем и крупная стачка. Слухи о том, что это 24-летний Джугашвили устроил поджог у Ротшильдов, а затем воспользовался забастовкой для вымогательства денег на революционные цели в обмен на прекращение поджогов, являются вымыслом. На самом деле пожар у Ротшильдов потушили рабочие, но лишь начальство получило за это премии, что стало причиной негодования; кроме того, первая крупная забастовка состоялась на заводе А. И. Манташева, начавшись 31 января 1902 г., когда одному из рабочих урезали зарплату – якобы за разговоры на рабочем месте. 18 февраля 1902 г., когда требования бастующих в отношении условий труда и дисциплинарного режима были частично удовлетворены, завод Манташева возобновил работу.
214
Командующий войсками на Кавказе приказал провести внутреннее расследование об условиях жизни рабочих, что дало соответствующие материалы для историков: Махарадзе, Хачапуридзе. Очерки. С. 137–138 (донесение от 28.03.1903).
215
Значительная часть рабочих Манташева, участвовавших в протестах, была депортирована в их родные села, многие из которых находились в Гурии (в Западной Грузии), что усилило размах крестьянских волнений, охвативших этот регион в 1902–1906 гг.: Jones, Socialism, 102, 129–58.
216
После начала забастовки военный губернатор Кутаисской губернии потребовал от рабочих выйти на работу, но они отказались. 32 человека были арестованы и приговорены к депортации. Другие рабочие пришли к тюрьме с пением песен и требованием либо освободить их товарищей, либо арестовать и всех остальных. Этих рабочих удалось хитростью заманить в казармы при пересыльной тюрьме. Страсти накалились, что привело к кровавым столкновениям: Батумская демонстрация. С. 9–11, 99–103 (Теофил Гогоберидзе), 177–202, 203–241 (на с. 207); Аркомед. Рабочее движение. С. 110–118.
217
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 199. Д. 175. Л. 47–48 [цит. в обратном переводе с англ.].
218
Не исключено, что в какой-то момент Джугашвили вернулся в Тифлис, на квартиру к своему другу Камо, чтобы тот помог ему организовать подпольную типографию. «Камо в этом деле был специалист», – восторгался Георгий Елисабедашвили: Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 174–180; Жвания. Большевистская печать Закавказья. С. 70; Чулок. Очерки истории батумской коммунистической организации. С. 39–52. Из Батума в Тифлис Сталина, одетого в форму и фуражку проводника и с фонарем в руке, якобы тайно провез железнодорожный проводник Мшвиобадзе: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 655; Kun, Unknown Portrait, 4.
219
Van Ree, “The Stalinist Self,” 270 (ссылка на РГАСПИ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 1931. Л. 11: воспоминания Тодрия); Батумская демонстрация. С. 98–99 (Тодрия).
220
Rayfield, Stalin and His Hangmen, 26; Kun, Unknown Portrait, 59; Аллилуева. Воспоминания. С. 37, 168.
221
Похлебкин. Великий псевдоним. С. 47–50. Монтефиоре, опираясь на мемуары, изображает Джугашвили «царьком Батумской тюрьмы, помыкавшим друзьями, терроризировавшим интеллигентов, подчинившим себе охрану и водившим дружбу с уголовниками»: Montefiore, Young Stalin, 103. Ср. с эмигрантскими мемуарами Уратадзе: «Когда <…> мы выходили на прогулку и мы все отдельными группами устремлялись в тот или иной уголок тюремного двора, он, Сталин, один ходил своими маленькими шагами взад и вперед, а если кто заговаривал с ним, раскрывал рот для своей холодной улыбки и, может быть, произносил несколько слов»: Уратадзе. Воспоминания. С. 68.
222
Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 194; РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 619. Л. 172 (перепечатано в: Сталин. Сочинения. Т. 17. С. 7–8).
223
Этим врачом был Григол Элиава. В начале 1903 г., ожидая отправки в ссылку, уже 25-летний Джугашвили мог быть призван в царскую армию, но получил освобождение от призыва благодаря заступничеству влиятельного друга семьи: Dawrichewy, Ah: ce qu’on, 31.
224
Аллилуев. Пройденный путь. С. 109.
225
Окружавшая его атмосфера была еще сильнее отравлена тем, что в Тифлисе накануне его неожиданного возвращения прошли массовые аресты среди социал-демократов: Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 212–216; РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 537. Л. 21 (М. Успенский); Переписка В. И. Ленина. Т. 2. С. 114–115.
226
Махарадзе, Хачапуридзе. Очерки. С. 71; Чулок. Очерки истории батумской коммунистической организации. С. 70–72.
227
Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 214 (ссылка на ГФ ИМЛ. Ф. 8. Оп. 2. Д. 4. Л. 53: Махарадзе; Ч. 1. Д. 6. Л. 231: Богучава); Арсенидзе. Из воспоминаний о Сталине. С. 218.
228
Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 216 (ссылка на ГФ ИМЛ. Ф. 8. Оп. 2. Ч. 1. Д. 43. Л. 217: Сихарулидзе); Montefiore, Young Stalin, 123 (ссылка на ГФ ИМЛ. Ф. 8. Оп. 2. Ч. 1. Д. 26. Л. 22–26: Сихарулидзе; Д. 26. Л. 36–39: Сихарулидзе).
229
Аллилуев. Пройденный путь. С. 108–109.
230
Макиавелли. Государь.
231
Тун. История революционных движений в России.
232
Махарадзе. К тридцатилетию существования Тифлисской организации. С. 29.
233
Jones, Socialism, 183–4.
234
Davis, “Stalin, New Leader”; Davis, Behind Soviet Power, 14. Подробнее о работе Дэвиса см. главу 13. Роберт Такер в биографии Сталина справедливо подчеркивает марксистские убеждения Сталина, но абстрагирует и драматизирует его обращение в марксизм: «великой темой классовой борьбы… [служат ее представления] об обществе прошлого и настоящего как о грандиозном поле боя, на котором сцепились в смертельной схватке две враждебные силы – буржуазия и пролетариат». На самом деле, как объяснял сам Сталин, сама по себе жизнь в Российской империи делала многих молодых людей марксистами: Tucker, Stalin as Revolutionary, 115–21.
235
Первые две работы в «Сочинениях» Сталина были опубликованы в 1901 г. в «Брдзоле», правда, без подписи автора. Его первая опубликованная и подписанная работа, не считая его романтических стихотворений, датируется 1 сентября 1904 г.: Сталин. Сочинения. Т. 1. С. 3–55.
236
Арсенидзе. Из воспоминаний о Сталине. С. 235–236.
237
О Ладо как о «старшем товарище» см. также: Енукидзе. Наши подпольные типографии на Кавказе. С. 5, 24; Rieber, “Stalin as Georgian,” 36–7.
238
Аллилуев. Мои воспоминания. С. 173–175; Болтинов. Из записной книжки архивиста. С. 271–275; Ulam, Stalin, 38. Сразу же после убийства Кецховели тюрьму посетил вице-губернатор. Насколько известно, тело Кецховели забрал для немедленного погребения отряд казаков: Берия, Бройдо. Ладо Кецховели. С. 201–218 (особенно с. 214).
239
Работа Берия, Бройдо «Ладо Кецховели» была издана на Кавказе в годы сталинского террора; Гулиев. Мужественный борец за коммунизм.
240
РГАКФД. Ед. хр. 15421 (1937).