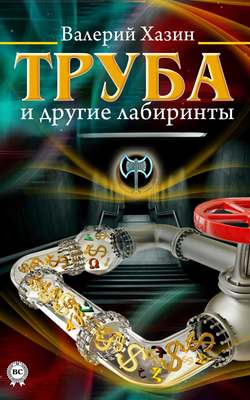Читать книгу Труба и другие лабиринты - Валерий Хазин - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Труба
Часть третья
1
ОглавлениеКогда затосковал Застрахов? Нетрудно сказать.
Весной, когда отцветали сады.
Посреди садов Заречья завязалось злосчастье, из-за дачи вывернула беда.
Был у Застраховых, как у многих жителей Вольгинска, клочок земли за городом на холмах, и маленький сад, и дачный домик для нехитрых трудов и летней отрады. И, видно, ещё с зимы повадились воры и в дом, и в сад.
Приехав по первому теплу, увидел Застрахов: вырыт напропалую кустарник с корнем, взломана дверь в доме, и вынесено оттуда всё – от посуды до старого белья. Не стали Застраховы жаловаться, недолго пеняли на судьбу: не мы первые, не мы и последние – и, по мере сил, восстановили утраченное. А еще через неделю повторился набег: выгребли всё оставшееся и всё, вновь привезенное, включая консервы и занавески. Но и тут не отчаялся Застрахов и даже посмеялся, благодаря обидчиков за то, что не спалили дом, – и снова заполнил его добром и врезал новую дверь с хорошим замком, и не верил, что придут в третий раз.
Однако пришли: но уже не тать в ночи, а будто бы шваль беспорточная и голь перекатная. И уже не знали меры: видно, сначала гудели ночь на чужом, а потом сволокли всё, что смогли, а что не смогли – испоганили: выбили стёкла, вспороли постели, раскрошили тарелки и чашки вдрызг. И запятнали дом изнутри блуд и блевотина, и мусорный ветер вокруг. И когда не нашел Застрахов самого дорогого – ящика с первоклассным инструментом, собиравшимся годами, когда понял, что не для работы тянули, а только пропьют всё в один миг – помутилось сердце его, словно тенью, и лицо покрылось тьмою: не буду, сказал он, терпеть больше, не отдам свое на поток и разграбление без расплаты.
И в третий раз расчистил дом и сад, и поднял из руин, и обновил дверь и окна. Но как не было на воров ни управы, ни защиты, и ни проку, ни пользы от пьяных сторожей – задумал Застрахов устроить засаду. И однажды, в начале недели, никому не сказавшись, уединился в саду. Расширил притолоки в доме, в сарае и в бане, закрепил над каждым входом по ведру. И подцепил через скобу хитроумной петлей к дверной ручке так, чтобы знающий мог легко отцепить веревку снаружи потайным крючком, а чужой, открывая дверь, получал бы ведро на голову. А в ведра слил Застрахов отработанное масло с моторов, и нефтяные подонки, и всякий шлам. И уехал, в мрачном злорадстве, в город до выходных.
А на другой день, с утра, в конторе жены его, темноокой Лидии, прорвало трубы, и решила она воспользоваться внезапным отгулом: прямо с работы поспешила в сад в неурочное время, чтобы заняться, наконец, долгожданной рассадой по солнышку…
Никто не скажет, куда, облитая первым ведром, бросилась она – в сарай, или в баню. Но домой на Завражную не вернулась.
Ошалевший Застрахов, узнав к вечеру от ее подруг, что еще утром она отправилась на дачу, кинулся в Заречье, но жены посреди ночи в саду не нашел, а подобрал только сумку ее в маслянистой луже и навеки умолкнувший телефон.
И никто не скажет, где и как провели ту ночь Борислав и Лидия Застраховы.
А под утро выяснилось, что спас ее от грязи сосед-садовод, случайно заночевавший у себя на даче через порядок: оттирал темноокую Лидию в собственной бане и переодевал в чистое, и помогал обрезать черные локоны, загустевшие вязкими узлами.
И еще неделю потом не видели ни Застрахова, ни жену его в доме номер девять по Завражной, но куда пропали они, и что было между ними – тоже никто не скажет.
А через время – и мало кто вспомнит, каким было это время, – уехала темноокая Лидия на родину, в страну с головокружительным названием Монтенегро, или Черногория. Уехала совсем, вместе со спасителем своим, соседом по даче, который оказался большим начальником в компании «Кирдымойл», и как раз был направлен в длительную командировку из Вольгинска на Балканы, к берегам Адриатического моря, на реконструкцию нефтепереработки, перетёкшей в руки новых русских хозяев[102].
И будто бы, прощаясь, говорила она:
«Нет больше сил. Девочкой выходила я за Славоню и мечтала поехать в страну, которую полюбила по дедушкиным сказкам. Думала, глупая, что Россия – огромная, светлая и сердечная. А вот оказалась она холодная, грязная и бандитская. И не научилась я понимать, отчего, почему на земле беспредельной, где нет никакого края простору, людям все время тесно?
И рождаются они в давке, и задыхаются в домах, придавленные бытом, и жмутся в очередях. И тесно им в поездах, неловко в туалетах, и даже на кладбище потом не хватает места. И куда ни придут – начинают толкаться локтями, толпиться и роптать, и вечно поджидают жадных до чужого.
Отчего это? Почему стиснуты зубы их, скованы лица, сжаты кулаки? Что теснит и стесняет их, когда кругом столько земли? И зачем воевали они германца, если живут на своей земле, как чужие – наспех да начерно, и почти каждый, кого догадал Бог с умом и талантом родиться в России, мечтает убежать?
Пел мне дедушка про русских богатырей, а Славоня – про Волгу широкую, и вот – утекли мои лучшие годы вдоль ее берегов, и дети мои выросли, а ничего почти не видела я из окон, кроме свалок и труб.
И раз уж выпало мне родиться на краю одной империи, а жить посреди обломков другой, то доживать лучше подальше отсюда – или как там учил ваш последний римлянин-изгнанник – «в глухой провинции у моря»?[103]
И уж если провоняла я нефтью с головы до ног, и не отмыться мне больше, и не увернуться от потока – хочу закончить дни в родном крохотном Которе. Чтобы были там дни дождей, когда надземные воды встречаются с подземными, и были дни ветров, когда воды пресные проливаются в соленые, а город, обоюдно омываемый, обтекаемый двояко, всасывает немного моря[104].
Там, по крайней мере, под каждой дверной осью – тысячелетний камень, и на каждом косяке – имя плотника, но все в городе подобно волнам: и улицы, и крыши, и старые стены крепости Йована.
Там, по крайней мере, или по мере приближения к краю, не тонет взгляд в пустоте, а радуется, скользя вверх по облачным склонам горы Ловчен, либо вниз – вдоль заливов самого теплого, самого южного фьорда – Боки Которской.
И, прежде чем закроешь глаза, там всегда успеешь увидеть многое: и теплые лестницы, и неторопливые корабли Европы, и пейзаж, будто нарисованный чаем[105]».
Так говорила темноокая Лидия, отправляясь к чужим, а вернее сказать – к родным берегам.
И Застрахов затосковал: запил горькую.
102
…в длительную командировку из Вольгинска на Балканы, к берегам Адриатического моря, на реконструкцию нефтепереработки, перетёкшей в руки новых русских хозяев…
В конце 90-х, начале 2000-х годов многие предприятия, а также инфраструктура нефтехимического комплекса в республиках бывшей Югославии (Сербия, Черногория, Словения и др.) постепенно переходили в руки частных хозяев, значительную часть которых составляли владельцы нефтяных компаний из России.
103
…или как там учил ваш последний римлянин-изгнанник – «в глухой провинции у моря»?
Лидия цитирует строчки из известного стихотворения Иосифа Бродского 1972 года «Письма римскому другу»:
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
Но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться.
Лучше жить в глухой провинции у моря.
Бродский Иосиф Александрович родился в 1940 году в Ленинграде. Стихи начал писать с 16 лет.
В 1964 году заботами бдительной ленинградской общественности против поэта было возбуждено уголовное дело по обвинению в тунеядстве. Его арестовали, судили и приговорили к пятилетней ссылке в Архангельскую область.
В 1965 году Бродскому разрешают вернуться в Ленинград, но в 1972 году ему приходится эмигрировать. С этого времени живет в США. Пишет стихи, прозу, причем на двух языках, преподает в университете. Становится одной из центральных фигур сразу в двух культурах – российской и американской. Его интонации оказались заразительными для подавляющего большинства современных русских поэтов, а сборник эссе «Меньше чем единица» был в 1986 году признан лучшей литературно-критической книгой в США.
В 1987 году Иосиф Бродский стал Нобелевским лауреатом по литературе. В 1992-м – ему присвоено звание «поэт-лауреат США». Умер в 1996 г. Похоронен в Венеции.
Изгнанничество и «поэтическая реинкарнация» судеб Пушкина и Овидия в собственной житейской и литературной траектории – устойчивый мотив поэзии Бродского.
104
Котор… город, обоюдно омываемый, обтекаемый двояко, всасывает немного моря…
КÓТОР (Kotor), город на Юго-Западе Черногории, на берегу Которского залива Адриатического моря (Бока Которская), у подножия г. Ловчен (1749 м), на которой расположен мавзолей черногорского правителя П. Негоша. Основан как римская колония. В X в., 1186–1371 и 1395–1420 гг. был свободным городом. В 1420–1797 гг. принадлежал Венеции, в 1815–1918 гг. – Австрии. В 1979 г. разрушен землетрясением. Морской и военный порт, окружён крепостными стенами и башнями, на возвышенности расположен форт Св. Йована. Собор Св. Трифона (XII в.), греческий собор Св. Луки. Морской музей, архив. Котор внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Описывая родной Котор, Лидия пользуется мотивами и метафорами из рассказа знаменитого сербского писателя Милорада Павича «Корсет» и мистического рассказа жены Павича, Ясмины Михайлович – «Три стола».
105
и пейзаж, будто нарисованный чаем…
Аллюзия на роман Милорада Павича «Пейзаж, нарисованный чаем» (1988 г.)