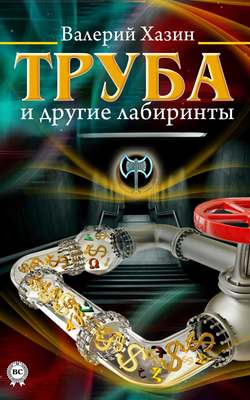Читать книгу Труба и другие лабиринты - Валерий Хазин - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Труба
Часть первая
6
ОглавлениеИ вот имена тех, кто[36] пошел, увлеченный письмом, на переговоры.
С первого этажа поднялись Подблюдновы, Чихоносовы и Кочемасовы с сыновьями.
Со второго: Сморчковы, Тимашевы и семейство Агранян.
С третьего: Бирюковы, Волковы и Одинцовы.
С четвертого: Аргамаковы, Буртасовы и Можарские.
С пятого: Ушуевы, Любятовы и Невеличко.
С шестого: Каракорумовы и Сорокоумовы с сестрою Полянской.
С седьмого: Урочковы и Волотовские с дочерью и зятем Сливченко.
С восьмого: Зыряновы, Эрзяновы и Мордовцевы с внуками Подлисовыми.
С девятого: Бочашниковы и братья греки Адельфи[37].
И сначала пришли к Застрахову, но в те дни был он почему-то хмелен и несловесен[38], и тогда отправились к Мусе.
И стали роптать, спрашивая: «Что это? Откуда? Кто первый и кто последний?»
И Муса обнадежил одних, выслушал других, ответил третьим, но пришедшие не верили и не уставали препираться, а он устал. И стал спотыкаться на простых словах, и замахал руками, чтобы разошлись до утра, а сам поспешил к Шафирову.
«Не могу, – сказал он соседу. – Приходи помочь мне, или говори с ними сам. А меня воротит от дующих на узлы[39]».
Шафиров не понял.
«Ётунхейм![40] – сказал Муса, как бы злословя. – Невозможно слушать завистников. И лучше посторониться от тех, кто дует на узлы, а также на стыки, стяжки и штуцера, а еще на фланцы, шарниры, вентили или на суставы и фаланги пальцев. И нет сил глядеть на тех, кто боится, но лезет под покрывало. И потому я отворачиваюсь и прибегаю к помощи рассвета».
Шафиров кивнул: утро вечера мудренее.
А когда на другой день начали подниматься к нему и снова допытываться: «Почему такое? Где доля от поделенного? И кто главный, чтобы наделять?» – он отвечал не сразу, но выждал, пока наговорятся.
И первые слова его были ясными, твердыми и острыми, как сапфир[41]: кто это пришел сюда толкаться локтями и толковать без толку, кто явился толпиться и роптать?
А потом он спросил, нет ли среди пришедших таких, которые отказались от трех тысяч и не приняли их как должное?
И в безмолвии полном еще спросил, не накрыло ли Вольгинск тенью дальних столиц, не затмило ли глаза соседям, не размягчило ли мозги умным, не развязало ли глупым языки? Разве те, кто пришли, возвели дом на Завражной? Разве собственной волей, а не волею случая приехали и расселились? Разве сами нашли пути к богатству и освоили их? И неужели доискиваться чего-то должны те, кто пришли? Чего же?
Правды? Всему свое время, и время покажет, не отвернут ли вскорости те, кто сейчас желает знать, лиц своих от правды, и не захотят ли обернуться назад в темноту, ибо все временно, а неведения лишаются навсегда.
Счастья? Всему свое место, и зачем не в доме своем, а здесь, под крышей девятого этажа, искать его?
Денег? Каждому воздастся по трудам, когда захочет он найти для трудов время и место.
И если за этим явился тот, кто пришел, – не тот, кто пришел, поведет разговор. И не тот, кто просит, а тот, кто дает.
Так говорил Шафиров[42]: с иными – по одиночке, с кем – по трое, а иногда и с целым этажом.
И говорил с ними девять дней и ночей, и сказал девяносто девять тысяч слов[43].
36
И вот имена тех, кто…
Клишированная формула, очевидно, заимствованная рассказчиком как синтаксическая конструкция из Библии. Словами «И вот имена…» открывается вторая книга Ветхого Завета, Исход.
Строго говоря, именно так – Имена (на иврите — Шмот, или Шемот) – называется эта книга и в еврейской традиции, по которой книги Ветхого Завета не имеют собственных наименований, но называются по первой строке. Привычные для европейцев названия библейских книг были даны первыми греческими переводчиками Писания, «семьюдесятью толковниками», авторами текста Септуагинты.
В частности, Пятикнижие Моисеево (Тора), состоит из следующих книг:
37
…Сморчковы, Тимашевы и семейство Агранян… Бирюковы, Волковы и Одинцовы… Аргамаковы, Буртасовы и Можарские… Ушуевы, Любятовы и Невеличко… Каракорумовы и Сорокоумовы с сестрою Полянской… Урочковы и Волотовские с дочерью и зятем Сливченко…Зыряновы, Эрзяновы и Мордовцевы с внуками Подлисовыми… Бочашниковы и братья греки Адельфи…
Глосса не сохранилась. За исключением нескольких фамилий с прозрачными и легко читаемыми значениями, этимология названных имен не установлена.
38
…и несловесен…
Описывая состояние Застрахова, рассказчик опять-таки использует архаизм, заимствованный из Библейской книги Исход. Как видно из дальнейшего повествования, «несловесным», или заикающимся оказывается не только Застрахов, но и Муса.
В Писании именно это слово характеризует косноязычие Моисея (Моше) и служит объяснением того, почему Моисей общается с фараоном, а затем – с народом Израиля – через посредничество своего старшего брата Аарона.
Текст оригинала (Шемот, 4:10–16), в котором некоторые формулировки не совсем совпадают с Синодальным переводом книги Исход, сообщает буквально следующее:
«10. И сказал Моше Господу: Молю (Тебя), мой Господин! Я человек не речистый ни со вчерашнего ни с третьего дня, ни с тех пор, как Ты говоришь с Твоим рабом, ибо тяжел на уста.
11. И сказал Господь ему: Кто дал уста человеку? Или кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Ужели не Я, Господь?
12. А теперь иди, и Я буду с твоими устами и укажу тебе, что тебе говорить и укажу тебе. Твои мысли будут верными, и ты сможешь точно их выразить.
13. И сказал он: Молю (Тебя), мой Господин! Пошли через кого посылаешь.
14. И воспылал гнев Господень на Моше и сказал Он: Ведь Аарон, твой брат, Леви; знаю, что говорить будет он, и также вот он выйдет тебе навстречу, и увидит тебя, и возрадуется в сердце своем
15. И будешь говорить ему, и вложишь речи в его уста, а Я буду с твоими устами и с его устами и укажу вам, что вам делать
16. И он будет говорить за тебя к народу, и он будет тебе устами, а ты будешь ему повелителем».
См. также Синодальный перевод, Исход, 6:28–30; 7:1–2:
«Моисей же сказал пред Господом: вот, я несловесен: как же послушает меня фараон?»
Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком:
ты будешь говорить [ему] все, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей».
В традиции существует несколько объяснений, почему Моисей (Моше) страдал дефектом речи – заиканием. Согласно одному из них, Моше провел долгие годы в пустыне практически в постоянном молчании. Моше считает, что для того, чтобы выполнить поручение Всевышнего и стать во главе народа, ему придется говорить и убеждать старейшин, объяснять народу и, наконец, доказывать фараону, что Всевышний поручил ему быть выразителем Его воли. Моше уверен, что человек, не являющийся искусным оратором, более того, страдающий дефектом речи, не может справиться с этой задачей.
По другой версии, Моше, будучи ребенком, пользовался всеобщим вниманием. Даже фараон любил играть с ним. Однажды, сидя у него на коленях, Моше схватил корону фараона и надел ее себе на голову. Маги и предсказатели объявили, что это дурной знак: может случиться, что в будущем этот ребенок сбросит фараона с престола и завладеет короной Египта. Они посоветовали фараону проверить, сознательно ли ребенок сделал это или только потому, что детям свойственно хватать блестящие предметы. Если этот поступок являлся сознательным действием, Моше следует немедленно казнить. В качестве проверки они предложили положить перед ребенком раскаленные угли и золото. В минуту испытания Моше протянул руку, намереваясь взять золото, но ангел Гавриэль, отведя руку, опустил ее на угли и даже заставил Моше положить уголь в рот. Моше остался косноязычен на всю жизнь.
Так или иначе, данный оборот превратился в клише, которым неоднократно пользуются и рассказчик, и герои повествования.
39
А меня воротит от дующих на узлы.
Здесь и в следующей реплике Муса перефразирует предпоследнюю, 113 Суру Корана «Рассвет»:
Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Скажи: «Прибегаю я к Господу рассвета
От зла того, что он сотворил,
От зла мрака, когда он покрыл,
От зла дующих на узлы,
От зла завистника, когда он завидовал!
Традиционное толкование этой, одной из самых поэтических и темных, Сур разъясняет: под «дующими на узлы» следует понимать колдуний и ведьм – всех тех, кто занимается практической магией. Волшебство и ведовство резко осуждается Исламом как проявление язычества: правоверному следует отвернуться, уклониться от «дующих на узлы» так же, как от зависти завистников.
Однако в повествовании «узел» является таким же сквозным и многозначным мотивом, как и бесчисленные «дымы», «потоки», «волны», «трубы» и «ключи».
«Вполне возможно, – пишет Мирча Элиаде, – что религиозно-магический комплекс связывания (узлов и освобождения от уз) и впрямь соответствует определенному архетипу или целому созвездию архетипов…».
Подробный обзор разнородной и многочисленной символики узлов – см. его работу 1952 г. «Образы и символы», глава III. «Бог-вязатель и символика узлов» в книге: Элиаде М. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и символы; Священное и мирское/ Перевод с французского. – М.: Ладомир, 2000.
40
Ётунхейм
Муса снова использует в качестве ругательства иноязычное слово, значение которого сам он, скорее всего, не совсем понимает.
Ётунхейм – «страна великанов», один из девяти миров скандинавской космологии. Отделен от Мидгарда (мира людей) горами и лесами, а от Асгарда (мира богов) – незамерзающей рекой Ивинг.
41
И первые слова его были ясными, твердыми и острыми, как сапфир…
Клишированная метафора, многократно используемая рассказчиком. Представляет собой сложную контаминацию мотивов и формул из иудейских, христианских, мусульманских и античных источников.
Так, в Коране слова Пророка часто предваряются или сопровождаются рефреном «вот слова ясные», или «вот знамения Книги ясной».
Далее опорным словом метафоры становится драгоценный камень сапфир и его характеристики.
В ювелирном деле сапфиром называют все окрашенные прозрачные корунды, кроме красных. Звездчатый сапфир – это кристаллы сапфира с астеризмом, обусловленным включениями игольчатого рутила.
В Древнем Риме жрец храма Юпитера всегда носил перстень с сапфиром на указательном пальце. Сапфиры украшали одежду священнослужителей Иудеи, Индии, блистали в короне Клеопатры. Звездчатым сапфиром – астериском – был украшен трон царя Соломона, из сапфира была сделана соломонова печать.
В Библии самоцветы упоминаются как в прямом значении, так и в символическом. Прямое указание на использование избранных драгоценных камней дано в книге Исход (39: 8–30), где названы 12 драгоценных камней с именами израильских родов, которые должны украшать судный наперсник. По словам иудейского историка Иосифа Флавия (I век), эти камни обладали чудесным свойством передавать Божественную волю при свершении правосудия. Сапфир – второй камень во втором ряду наперсника.
Кроме того, упоминание сапфира в Библии, как правило, служит для символического выражения идей Священной славы Господа, открытой пророкам. В Ветхом Завете – это видение пророком Иезекиилем трона Господня, который сравнивается с сапфиром (Иез.1.26) и описание Моисеем «места стояния Бога Израилева» на горе Синай, как «нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное» (Исх. 24.10). Здесь основным символом Господа является сапфир, камень синего цвета, обозначающего истину, тайну и трансцендентность.
В Апокалипсисе, последней канонической книге Нового Завета, у апостола Иоанна дано символическое описание небесного Иерусалима (Откровение, 21.11–23). Двенадцать оснований стены города, имеющие надписи имен апостолов, «украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сардолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хрисопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист».
В повествовании одним из устойчивых атрибутов, сопровождающих речи Шафирова, является его перстень с характерной «колкой, звездчатой искрой». Хотя рассказчик прямо нигде не сообщает, какой именно камень украшал перстень Шафирова, по многочисленным косвенным признакам, можно предположить, что камень этот – сапфир. См., в частности, комментарий № 15 к главе 2, части 1, в котором само имя Шафирова этимологически возводится к общесемитскому корню, означающему сапфир.
Однако, происхождение этого слова до конца не ясно. В целом, «сапфир» – слово, обозначающее синий; вначале оно относилось к ляпис-лазури и, возможно, другим непрозрачным минералам синего цвета. По одной версии, оно пришло в европейские языки через латинскую форму ‘sapphirus’ от греческого прилагательного ‘sappheiros’, заимствованного, в свою очередь, из финикийского языка. Сходное слово существовало как в семитских (древнееврейском, арамейском), так и в персидском языках. Согласно другой гипотезе, слово не являлось семитским по происхождению. Некоторые лингвисты полагают, что его первичным источником был санскрит.
Сапфир считался символом власти, верности, целомудрия и скромности, а в средние века его именовали «епископским камнем», считая, что он олицетворяет высшие духовные ценности, сохраняет от гнева и страха, является символом надежды. Кроме того, сапфиру приписывали свойства уменьшать боль, предотвращать разногласия, а также даровать вечную жизнь обладателю камня.
42
Так говорил Шафиров…
См. Примечание 12 к главе 1 части 1. В целом речи Шафирова являются разветвленной парафразой слов из книги Екклесиаста, а «ситуация вопрошания» воспроизводит синтаксис и стилистику диалога Всевышнего с Иовом (См. Иов, 38–41).
См. также Екклесиаст (3:1–2): «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное» и след.
43
и сказал девяносто девять тысяч слов.
Устойчивый оборот, используемый рассказчиком неоднократно.
Восходит к истории мусульманского праздника Мирадж (Исрав аль-мирадж или Раджаб-байрам) и преданию о чудесном путешествии Пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим (Аль Кудс) и Его вознесении к небесному престолу Аллаха.
Согласно преданию, Мухаммад, уснув возле мекканской мечети, чудесным молниеносным способом при помощи Архангела Джабраила (Гавриила) на крылатом коне Бураке совершил путешествие в Иерусалим, а затем, оставив там Бурака, в сопровождении Джабраила прошел семь небес.
На первом сам Адам открыл ему «небесные ворота»,
на втором – встретились ему пророки Яхья (Иоанн Креститель) и Иса (Иисус),
на третьем – Иосиф,
на четвертом – Идрис (не имеет прототипов в Библии),
на пятом – Харун (Аарон),
на шестом Муса (Моисей),
на седьмом же небе восседал праотец – патриарх всех пророков Ибрахим (Авраам).
А когда с седьмого неба Мухаммад явился к престолу Аллаха, то беседовал с ним, сказав 99 тысяч слов…
Затем Мухаммад был возвращен на землю, обратно в Мекку. Вернувшись, Мухаммад убедился, что постель его еще не остыла, а из опрокинутого при отправлении в путь кувшина не успела вытечь вода.
Праздник в ознаменование чудесного путешествия Мухаммада из Мекки в Иерусалим и его вознесение (мирадж) к небесному престолу Аллаха стал одним из самых популярных сюжетов мусульманских преданий. Это событие произошло 27 раджаба 621 года, оно отмечается во многих мусульманских странах, ночь 27 раджаба мусульмане проводят в бдении, читают Коран, молятся и пересказывают предание о чудесном вознесении пророка.
Арабское слово мирадж (вознесение, полет) вошло во все европейские языки и получило новое значение – мираж.