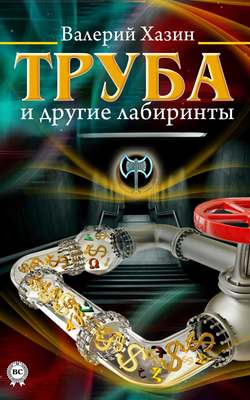Читать книгу Труба и другие лабиринты - Валерий Хазин - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Труба
Часть третья
6
ОглавлениеИ вот имена тех, кто был осажден расспросами, и что было передано поименно.
Подблюдновы и Чихоносовы переуступили ночные смены Кочемасовым, а те, на приработках, начали оборудование студии звукозаписи прямо в квартире.
Сморчковы и Тимашевы стали пропадать по выходным – то ли в клубах, то ли в казино; семейство Агранян чуть ли ни еженедельно принимало у себя очередную делегацию армянской диаспоры.
Бирюковы, Волковы и Одинцовы отказались говорить сами, и никто ничего не мог сообщить о них.
Аргамаковы и Буртасовы переселились на дачи, почти перестали выходить на отмеренные вахты – поднанимали вместо себя через Можарских каких-то бездомных бродяг и проходимцев с Завражной.
Ушуевы, Любятовы и Невеличко сделались завсегдатаями массажных кабинетов, косметических клиник и спа салонов.
Каракорумовы, помимо домработницы, обзавелись поварихой, Сорокоумовы – садовником и сиделкой для сестры Полянской.
Урочковы приобрели гаражный блок на Ветловых Горах в складчину с Волотовскими, и зять их Сливченко устроил там автомастерскую, обещая первые дивиденды уже с осени.
Стали подумывать о переезде в хороший район Эрзяновы, и Зыряновы, вслед за ними, принялись подыскивать арендаторов для квартиры на Завражной, а Мордовцевы купили, будто бы для внуков Подлисовых, домик в деревне Заречья.
И только Бочашниковы ничего не тратили в Вольгинске, но каждые три месяца отправлялись в новый тур по Европе, и зачастили в Средиземноморье братья греки Адельфи.
И если кто и донес на соседа, то в пределах разумной самообороны, но больше шептались о каком-то взрывном празднике, приближающемся к дому, по обещанию Застрахова, вместе с днем города…
И не стал совоголовый Шафиров, как прежде, обходить этажи, а говорил лишь с некоторыми. И слова его были ясными, твердыми и острыми, как сапфир: смех глупых – говорил он – что треск тернового хвороста под котлом, и пронесётся дымом[139]. Одно дело – гости в доме, совсем другое – наемники пришлые, и не нужно путать туризм с эмиграцией, а место в среднем классе – с персональным лайнером.
Никому не простительно оставлять вахту без спроса и ставить чужих на работы.
Никто не уйдет безнаказанным, если явятся в дом незваные.
Никому не будет позволено самовольно покинуть Завражную.
Ибо все это, говорил Шафиров, – только гонка в недоумении и вечное опоздание.
И, подступившись, спрашивал смутившихся:
Откуда ждать помощи или ответа тем, кто пожертвует необходимым в надежде получить излишнее, и выйдет из общего дела?
Готов ли кто-то отсечь себе пути к дому номер девять на Завражной, и обратить жизнь свою вдали не в дым даже – а в тень, бегущую от дыма?[140]
Знает ли кто-то, какова цена вопроса и цена отсечения?
И, проговорив так, долго еще потом перешептывался Шафиров с Мусой, прохаживаясь вдоль оврага под шелестящими тополями: не стоит ли установить – вокруг да около дома, и по периметру, и внутри – новую круглосуточную систему видеонаблюдения, и прослушку на телефоны?
И оба недоумевали, отчего это не убавляется забот, и время не делается легковесным, хотя вот уже третье лето истекает, и всё растут нефтяные котировки на рынках, и благоприятны кросс-курсы мировых валют и перепады цен в портах Джейхана и Вентспилса, и не утихает ток в трубе; и прибывают исправно платежи, и каждый получает свое?
Но обоим было понятно, что главный разговор их – с Застраховым – впереди.
139
…смех глупых – говорил он – что треск тернового хвороста под котлом, и пронесётся дымом…
См. Екклесиаст, 7:6: «потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это – суета!»
Ветхозаветная книга Екклесиаста, или Проповедника (в оригинале – Кохелет) довольно часто цитируется героями повествования.
Рефрен книги – горькие размышления о тщете земного бытия и человеческих забот – вошел в европейскую культуру в виде хрестоматийного фразеологизма «Суета сует».
См. Екклесиаст, 1:2 в Синодальном русском переводе: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!». Формула перекочевала в латынь и другие европейские языки через греческий перевод.
Между тем ключевое слово этой формулы, переведенное как «суета», «тщетность», на языке оригинала звучит: «гевел». Первое значение этого слова на иврите: дыхание, осевший пар, дым. «Гевел» в древнееврейской поэзии принадлежит к образам, служащим для описания мимолетности человеческого существования (так же, как вода, тень, дым и т. д.).
Таким образом, речь Шафирова, как будто ведомая какой-то дальней генетической памятью, движется поверх общеупотребительных формулировок и восходит непосредственно к словам первоисточника: «Пронесется дымом», – говорит он.
Очевидно, что всевозможные «дымы» являются лейтмотивом повествования.
140
…обратить жизнь свою вдали не в дым даже – а в тень, бегущую от дыма?
Шафиров перефразирует известное стихотворение Ф. Тютчева:
Как дымный столп светлеет в вышине! —
Как тень внизу скользит, неуловима!..
«Вот наша жизнь, – промолвила ты мне,
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма…»
1848 или 1849
В этом эпизоде повествования «дымные» метафоры достигают своей кульминации: сгущаются до предела, чтобы, в конце концов, испариться и стать тенью на ветру.
В одном из «Колымских рассказов» (70-е годы XX века) Варлам Шаламов контаминировал эти же строки в описание того вожделения, с каким лагерники вдыхают расстилающийся вокруг табачный дым – «не дым, а тень, бегущую от дыма».
«Быть может, всемирная история – это история различной интонации при произнесении нескольких метафор», – пишет Борхес в рассказе «Сфера Паскаля» (1951 г.).