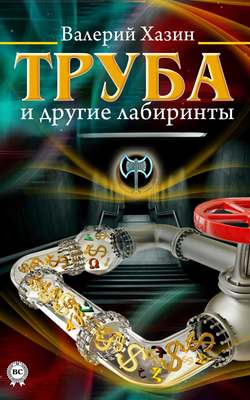Читать книгу Труба и другие лабиринты - Валерий Хазин - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Труба
Часть третья
2
ОглавлениеБыл Застрахов хмелен и несловесен девять дней и ночей.
И в первые дни пытались Муса и Шафиров вразумить, выдернуть голову его из-под волны заливающей, а потом отступились. Взяли на себя долю работы его, договорились потерпеть, не менять пока взрывоопасных чисел пускателей, и стали звать Марию, и разыскивать Даниила Застрахова. Но Даниил куда-то пропал и не отзывался, а Мария, придя, опустила голову и сказала, чтобы не искали брата, потому что в Вольгинске его нет, и не будет какое-то время. И согласилась ходить за отцом, а ночевать у него отказалась: сына без присмотра оставлять не могла и не хотела, чтобы видел он деда в непотребстве.
А на девятый день позвала соседей к отцу, прошептав, что вина, по счастью, душа его не принимает уже, но не знает она, что осталось у него за душой, и боится.
И, войдя, смутились Муса и Шафиров: завернулся Застрахов в лоскутное одеяло в глубине дивана, обхватив согнутые колени, и даже с порога видно было, как колотит его мелкая судорога[106], несмотря на летнюю жару вокруг.
А когда заговорили с ним, огляделся он и заплакал горько. А потом насупился, отвернулся и проговорил[107], заикаясь, что готов через сутки вернуться к работе – вот только в подвал больше не спустится и к трубе не подойдет, поскольку слышен в ней теперь иной, непривычный гул, или гудение – не отдаляющееся, как прежде, а будто бы настигающее. А по обоим берегам Волги всякому известно: дурной это знак – к покойнику.
Шафиров и Муса не стали препираться, не понукали завернувшегося: «встань, очисти одежды, перешагни скверну»[108] – оставили его с Марией и решили подождать еще день-другой.
В беде человек, говорил совоголовый Шафиров, и холодно одинокому[109]. Вот недели катятся одна за другой, словно волны Волги, и каждая приумножает богатство, и прирастает имущество[110], но, похоже, таков этот город Котор на берегу самого южного фьорда, что нельзя его обмануть, а сам он обманет любого и никого не отпустит. Вот и дочерей в свое время с Завражной унесло: Розу – на теплое море, Музу – на Северное; и уж если сам Петр Великий обманулся когда-то, послав в мореходную школу того Котора девятнадцать лучших юнг Империи, и не один из них потом не вернулся в Россию[111], – кто упрекнет темноокую Лидию, кому судить мужа, оставленного женой? Досыта напоено вином тело Застрахова, и душа пропитана ядом, но ведь голова его – чистое золото[112], и руки золотые, и когда для окружающих болезнь его – проблема, для него самого, может быть, – решение. Подождать день-другой – выветрится недуг, и вздохнет человек, и вернется – если только и в самом деле не послано кем-то, и не передано что-то всем остальным через хмельные слова его о трубе…
«Не знаю, – отвечал Муса. – По мне, все это – не больше, чем речи людские, суесловие и пересказанное колдовство[113]. Нет, конечно, таких на земле, кто не вздрогнул бы при звуке трубы. Разве не передано и твоему народу Писания, и людям Креста, и правоверным, предавшимся слову Пророка, – разве не сказано всем страшится дня, когда протрубит труба?[114]
Верно, конечно: пронеслись наши годы вдоль берегов Волги, как бы коней косящий бег[115], и до сих пор еще как будто скачут в глазах некоторых огни и плывут дымы каких-то дальних Империй. Но разве скажет кто, особенно в Вольгинске: вот пришел день, и одни покоятся с супругами на ложах в тени, а иные встают, поднятые трубой, озираясь, и не знают родственных уз, и не могут расспрашивать друг друга, но идут войной одни на других?[116]
Верно, конечно: наступили дни тяжкие, но время ли теперь судить, что хотели тем самым сказать, словно притчей, и кому послано?[117]
Ведь не сосед наш Застрахов пугал нас, но говорила болезнь в сердце его. И много ли проку гадать, если труба в подвале, как была – осталась ни горяча, ни холодна, и стоит приложиться к ней – слышен внутри все тот же упругий, убегающий гул, в котором опытное ухо безошибочно опознает поток?
Нет, не время теперь. И потому надо вернуться к трудам, словно ничего не случилось, и сделать так, чтобы никому не потерпеть убытка, и ничьи усилия не были тщетны».
Шафиров кивнул, помолчав, и сказал, что до сих пор даже в земле Израиля трубит витой рог, именуемый Шофар, лишь при обновлении года и в день Покаяния[118], напоминая о заповеданном.
И оба согласились повременить с отпусками и поездками к дочерям, и перекроить заботы, постепенно возвращая Застрахова в общее русло, и все-таки, несмотря на то, что Мария молчит и таится, разыскать сына его Даниила, чтобы стало теплее одинокому посреди окружающих.
А долю доходов Застрахова сохранили и еженедельно откладывали целиком, как если бы трудился он по-прежнему, не покладая рук, и руки его не дрожали.
106
завернулся Застрахов в лоскутное одеяло в глубине дивана, обхватив согнутые колени, и даже с порога видно было, как колотит его мелкая судорога…
Весь эпизод (в том виде, как он передан рассказчиком) представляет собой сложную контаминацию и восходит к библейским и кораническим мотивам.
Застрахов завернулся в «лоскутное одеяло», подобно библейскому Иосифу.
Его колотит судорога, что отсылает к двум Сурам Корана – 73-й, «Завернувшийся», и 74-й, «Закутавшийся» (в другом переводе – «Плащом Покрытый»). В этих Сурах переданы ночной ужас и дрожь Мухаммада после явления ему ангела Джибриила (Гавриила).
Один из наиболее авторитетных авторов хадисов (толкований Корана), Аль-Бухари (810–870 гг.) свидетельствует:
«Началось с того, что Мухаммад стал подвергаться во сне видениям, которые являлись ему подобно сиянию утренней зари. И полюбилось ему уединение. Долгие ночи проводил он в пещере на горе Хира в полном уединении…
И явился к нему ангел (Джибриил) и сказал: «Возглашай!» Ответил ему Мухаммад: «Не буду!» И схватил его ангел и душил изо всех сил до крайнего предела. И опять сказал ангел: «Возглашай!» Опять ответил Мухаммад: «Не буду!» И схватил его ангел во второй раз и душить стал так сильно, как только он мог терпеть. И вновь сказал ангел: «Возглашай!» И вновь ответил Мухаммад: «Не буду!» В третий раз схватил его ангел и душил до последних сил.
И сказал ангел: «Возглашай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Возглашай! И Господь твой щедрейший, который научил – научил человека тому, чего он не знал» (Коран, сура 96, «Сгусток», аяты 1–5)
И повторил за ним Мухаммад, а сердце его трепетало. Он пошел к Хадидже и сказал ей: «Закутайте меня! Закутайте меня!» Его закутали, пока не прошел его страх…
Затем настал перерыв в откровении. И вот однажды, когда Мухаммад прогуливался, он услышал голос с неба. Он поднял свой взор и увидел ангела, явившегося к нему на горе Хира, восседающим на троне между небом и землей. Он испугался его, вернулся домой и сказал: «Закутайте меня! Закутайте меня!» (И весь дрожал) И ниспослал тогда Аллах:
«О завернувшийся!
Встань и увещевай!
И Господа твоего возвеличивай!
И одежды твои очисть!
И избегай греха!»
(Коран, сура 74, «Завернувшийся», аяты 1–5)
После этого откровения последовали одно за другим без перерыва.
107
потом насупился, отвернулся и проговорил…
См. Коран, Сура 74:21–23: «21. Потом он посмотрел! 22 Потом нахмурился и насупился, 23 потом отвернулся и возвеличился…»
108
«встань, очисти одежды, перешагни скверну»
Парафраза той же Суры «Закутавшийся». См. Коран, 74:4–5.
109
…и холодно одинокому…
См. Екклесиаст, 4:9-11:
9. Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их:
10. ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.
11. Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?
110
…и каждая приумножает богатство, и прирастает имущество…
См. Екклесиаст, 5:10: «Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо для владеющего им: разве только смотреть своими глазами?»
111
…сам Петр Великий обманулся когда-то, послав в мореходную школу того Котора девятнадцать лучших юнг Империи, и не один из них потом не вернулся в Россию…
Исторический факт.
112
но ведь голова его – чистое золото…
См. Песнь Песней, 5:11.
113
По мне, все это – не больше, чем речи людские, суесловие и пересказанное колдовство…
См. Коран, 74: 23–25: «потом отвернулся надменно и сказал: «Это не что иное, как пересказанное чародейство. Это всего-навсего – речи людские»».
114
Разве не передано и твоему народу Писания, и людям Креста, и правоверным, предавшимся слову Пророка, – разве не сказано всем страшится дня, когда протрубит труба?
Муса справедливо вспоминает, что трубный глас, возвещающий наступление Последних Дней и Страшного Суда, – сквозной мотив трех монотеистических религий: иудаизма, христианства, ислама. Архетипический образ, по-видимому, восходящий к глубокой древности и встречающийся в различных (не только ближневосточных) мифологиях.
В прямом и символическом смысле труба и трубный глас упоминаются в Ветхом Завете 77 раз, в Новом Завете – 8 раз, в Коране – также не менее 8 раз (Суры 18, 20, 23, 36, 39, 50, 74, 78).
В Откровении Иоанна Богослова этотмотив усложняется: звуку трубы уподобляется уже голос Всевышнего.
См. Откровение, 4:10: «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего».
См. также отдельный внутренний сюжет «семи печатей, семи ангелов и семи труб», изложенный в Откровении, главы 8-11.
При этом Муса остается в русле коранического восприятия предания.
Коран разделяет Книги иудеев и христиан на ат-Таурат, то есть «Закон» (Тору, Пятикнижие Моисеево) и Инджиль (Евангелие): «И ниспослал Он Тору и Евангелие раньше в руководство для людей…» (3:3). По свидетельству Корана, Священное Писание было получено иудеями и христианами от самого Бога: «О люди Писания! Вы ни на чем не держитесь, пока не установите прямо Торы и Инджиль и того, что было низведено вам от вашего Господа» (5:68). Нет никаких расхождений, и по поводу того, через кого эти установления были получены – Таурат, соответственно через Мусу (Моисея), а Инджиль через Ису бен Мариам (Иисуса сына Марии).
Причем в Коране подчеркивается неразрывная внутренняя связь между двумя книгами, и действительно они объединены у христиан в общую книгу под названием Библия: «И отправили Мы по следам их Ису, сына Мариам, с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе, и даровали Мы ему Инджиль, в котором – руководство и свет, и с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе» (5:46).
115
пронеслись наши годы вдоль берегов Волги, как бы коней косящий бег…
Муса неточно цитирует или сознательно перефразирует сонет О. Мандельштама (1934 г.). Поскольку мотивы и метафоры этого стихотворения возникают в повествовании многократно, текст приводится целиком:
Промчались дни мои – как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.
По милости надменных обольщений
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жмется. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.
Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может как бывало.
И я догадываюсь, брови хмуря:
Как хороша? к какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?
Стихотворение является вольным переводом Мандельштама сонета Франческо Петрарки № 319 из книги «Канцониере» (Canzoniere).
В оригинале сонет Петрарки открывают следующие слова: «I di miei piu leggier' che nesun cervo, fuggir come ombra…». В буквальном переводе: «Дни мои легче оленя, и пробежали словно дым (облачко, тень, капли пара)», что, в свою очередь, восходит к Ветхозаветному «плачу Иова».
См. Книга Иова, 9:25: «Дни мои быстрее гонца, бегут, не видят добра».
Возможно, в устах волгаря Мусы «кони» звучат естественнее, чем «олени».
При этом парой фраз ниже, как бы следуя тропой дальней литературной памяти, он говорит: «…и до сих пор еще как будто скачут в глазах некоторых огни и плывут дымы каких-то дальних Империй…».
116
…и одни покоятся с супругами на ложах в тени, а иные встают, поднятые трубой, озираясь, и не знают родственных уз, и не могут расспрашивать друг друга, но идут войной одни на других?
Аллюзия, сотканная из различных айатов разных Сур Корана, в которых дано описание Судного Дня. См. Сура 18 «Пещера» (99), Сура 23 «Верующие» (101), Сура 36 «Йа Син» (51–56), Сура 39 «Толпы» (68).
117
…но время ли теперь судить, что хотели тем самым сказать, словно притчей, и кому послано?
См. Коран, Сура 74:33: «И сказали те, в сердцах которых болезнь, и неверующие: «Что такое хотел Аллах <сказать> этим, как притчей?».
118
…трубит витой рог, именуемый Шофар, лишь при обновлении года и в день Покаяния…
Шофар, древний духовой музыкальный инструмент, бараний рог, в который трубят во время синагогального богослужения на Рош ха-Шана (еврейский Новый год) и Йом-киппур (Судный день, или День искупления). Звуки шофара на Рош ха-Шана толкуются как призыв к покаянию; возник обычай трубить в шофар ежедневно в течение всего месяца, предшествующего Новому году.
В древности шофар использовался как сигнальный инструмент для созыва народа и возвещения важных событий, а также во время войны. Звуки шофара, по преданию, обрушили стены Иерихона («иерихонская труба»). Использование этого инструмента восходит к магическим обрядам доеврейской эпохи.