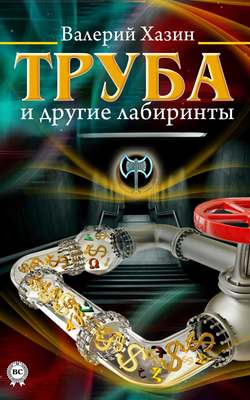Читать книгу Труба и другие лабиринты - Валерий Хазин - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Труба
Часть третья
7
ОглавлениеСобирались долго, и всё же решили рискнуть: выставили нефритовые рюмки и коньяк, хотя и поглядывали на Застрахова с тревогой. Однако уже третий глоток развеял все опасения: осталась рука Застрахова крепка, и речь тверда, а глаза заблестели мягко, без всяких признаков болезни.
Шафиров не преминул заметить, что сегодня пьют они нечто совершенно особенное: именно эта, крайне ограниченная, партия знаменитого коньячного дома получила золотую медаль Миллениума на всемирном конкурсе в Сан-Франциско[141].
И, как прежде, накрыло выпивавших теплой волной душевного разговора: стали спрашивать Застрахова, о каком это празднике нашептывают жители дома, и не задумал ли он чего-нибудь втайне?
А когда выслушали, прокряхтел Муса, как бы злословя: «Ёрмунрёкк!»[142].
Шафиров же спросил, нахмурившись, не залило ли в самом деле Вольгинск тенью дальних столиц, не затмило ли глаза соседу, и что за имена произносит он поминутно – Саша, Даша и Глаша?
И Застрахов насупился, а потом отвернулся и сказал: вот уже третий август на исходе с того дня, как прогудела труба, а время почему-то не делается легковесней… И просит душа большого праздника, чтобы не гостем явиться туда, не жадным до чужого, и не тем, кто приходит от обхода земли, – но хозяином.
Вот, говорил он, приближается по осени День Города, но Вольгинск останется Вольгинском: растечется праздник по руслам его, и соберутся горожане на площадях толкаться локтями и толковать без толку, и станут толпиться и роптать, и будет только голенастая пьянка, и недоумение, и цветастая горячка с опозданием.
И потому хочется сделать такое, что не под силу даже первым лицам, но чтобы разорвало от зависти самых влиятельных в собраниях, клубах и диаспорах. Ибо нет такого человека в Вольгинске – ни мужчины, ни женщины – кто не открыл бы рта от восторга, оказавшись на приеме с участием Саши, Даши и Глаши. И нет таких, кто не позавидовал бы званым, когда не приглашен сам. И не нашлось бы тех, которые не позавидовали бы завистникам, едва станут они называть имена званых.
Так говорил Застрахов, и переглянулись Шафиров и Муса. И дошло до них в невеселом изумлении, чего хочется их соседу: сделаться хотя бы на один вечер распорядителем пира и покровителем трех самых именитых красавиц, давно оглядывающих русские города с глянцевых обложек, – Саши Сволочковой, Даши Живодяновой и Глаши Субчак…[143]
И после нелегкого, но уважительного молчания промолвил Муса: «Не знаю. Мы, конечно, не братья Дубинины, и не похож я на Хаджу Тагиева, хотя и стала мне труба ближе, чем яремная вена. Но ведь и тебя, сосед, не сделала она инженером Семеновым или Игнасием Лукашевичем[144]. И зачем же желать славы чужой, кого удивлять, к чему опьяняться ложной надеждой?»
А Застрахов отвечал: разве не передано, что нет лучшей доли для человека, кроме как есть, пить и веселиться, наслаждаясь плодами трудов своих?[145] Разве не обещаны некоторым сады прохладные, где не иссякают источники, и щекотливое круженье красавиц, чей вздох сладок и свеж каждое утро?[146] Разве не болезнь – печаль? Ведь что было – было, а что будет – будет. И почему бы не быть в Вольгинске тому, чего еще не было, дабы утолились печали?
Шафиров же запахнул свой черешневый халат и осторожно предположил, что уважаемый сосед вполне представляет себе цену вопроса, но ведь тут возникает уже и не вопрос цены, а спрашивается, чем заманить Дашу Живодянову в Вольгинск, как подчинить её европейский график воле приглашающих, и каким образом дотянуться и свести в одном месте Сволочкову и Субчак, когда они на дух не переносят друг друга?
И снова нахмурился Застрахов и покачал головой: всё верно, но вот стоит лишь узнать двум вечным соперницам о визите Живодяновой в Вольгинск и о категорическом условии её, чтобы не было на приеме Саши и Глаши, – тут же и накроет обеих волной нежной дружбы, и явятся вместе, куда нужно по первому зову, потому что нет таких жертв, которых не принесли бы Саша Сволочкова и Глаша Субчак ради ревности своей к Даше Живодяновой. А поскольку пишут про Дашу, будто и в замке своего норвежского князя не забывает она ни дом, ни Волгу, ни родной город, – приглашать северную красавицу следует ни на светский раут, а на благотворительный вечер в пользу сирот Заречья, предупредив при этом: мол, две российские звезды, Саша и Глаша тоже согласились приехать, но не раньше, чем узнали, что мероприятие почему-то не сможет посетить Даша…
И нет сомнений, продолжал Застрахов изменившимся, горловым голосом, что соберутся все трое, как в старом анекдоте. Только к подготовке нужно приступать заранее, уже сейчас. А для начала попробовать разыскать благородного норвежского посланца Даши Живодяновой, который приезжал в Вольгинск по её делам и провел нежданным гостем несколько дней без памяти в доме номер девять по улице Завражной, где и был спасен от зимней беды…
И опять переглянулись Муса и Шафиров. Нельзя, конечно, сказал первый, запретить кому-либо грезить о несбыточном… Но ведь не было, добавил второй, никакого норвежского гостя в доме…
«Не было, – кивнул Застрахов. – Да только и самому мне порой не верится, что это с нами случилось то, что случилось. Может, и не было гостя, но должны же служить у таких звезд секретари, референты, помощники? Кто-то же занимался поездкой Даши Живодяновой в Вольгинск и Заречье пару лет назад? Разве не по силам и нам потянуть за те же нити, развязать узлы? Вот уже третье лето не утихает ток в трубе – и неужели все труды человека только для рта его? И для чего же случилось то, что случилось в доме номер девять на Завражной, если и теперь мы не можем обустроить праздника, какого еще не бывало в городе? Ведь не тот богат, чьё имущество множится, а тот, кому доступна радость. Но Вольгинск остается Вольгинском, и чем насытится душа на берегах Волги, где весна духовита, лето душно, осенью тошно, а зимою скучно?»
Помолчали.
Шафиров налил всем еще понемногу.
И заговорил неторопливо, вспоминая, как сказано было в одной волшебной русской повести: счастье и стыд не живут вместе – приходит счастье и прогоняет стыд, а гонимый стыдом не бывает счастлив[147]. И потому, может быть, прав Борислав Вячеславович, уважаемый сосед Застрахов: хочешь подманить счастье – попробуй прогнать стыд, а не уверен в счастье – устрой хотя бы праздник. Ведь вера есть ручательство о делах невидимых, а праздник делает видимым сокрытое. Прав сосед: своя у каждого печаль, а праздник должен быть общий, и радость одна на всех, как один на всех поток в трубе (да не оскудеет сила его!).
Вот уже третье лето катятся недели, словно волны Волги, и прибывают исправно платежи, но никто не скажет, сколько еще будет уделено дому номер девять по улице Завражной. И потому прав уважаемый сосед Застрахов еще и в другом: пришла, похоже, пора прокладывать новые русла, и нужно прислушаться к тому, что передано и послано – как притчей – словами, обстоятельствами и даже самим именем его.
Почему бы, качнул головой Шафиров, и в самом деле не быть в Вольгинске тому, чего никогда прежде не было, о чем по обоим берегам Волги всякий сказал бы: это не имеет места быть, ибо нет для этого ни места, ни времени?
Почему бы не выделить, наконец, время и место для праздника, на котором некому будет спрашивать, кто первый, кто последний и кто главный, чтобы наделять? Почему бы не устроить такой праздник, куда не стыдно было бы пригласить и дочерей уехавших: Марию – из Нижнего Новгорода, Музу – из Тронхейма, Розу – из городка Кириат-Шмона – даже если они не откликнуться? Во всяком случае, как сказано в другой волшебной повести, – пусть французской, и пусть по поводу совсем другого города, – это успокаивает и интригует[148].
А уж если задумано соблазнить на празднование, то есть запечатать в глянец, названных красавиц – Сашу, Дашу и Глашу – поспешность, неряшливость легкомысленность здесь не уместны.
Большой праздник – большая работа, и главное в празднике – воля и представление[149]. И должно быть взвешено в нем далекое и близкое, дармовое и заработанное, видимое и сокрытое. И, значит, потребуются не только время, место и деньги. Нужен еще помощник, секретарь, референт – словом, управляющий потоками, связной, человек, как бы отдаленный и в меру приближенный, чтобы можно было доверять…
И тут настал черед переглянуться Застрахову и Мусе, и обоим стало понятно: опять успел придумать что-то совоголовый сосед их Шафиров, и снова ведет речь об известной журналистке с именем, хотя не было произнесено ни одного из девяти ее псевдонимов.
141
…именно эта, крайне ограниченная, партия знаменитого коньячного дома получила золотую медаль Миллениума на всемирном конкурсе в Сан-Франциско…
Скорее всего, это – Фрапен VSOP: коллекция получила золотую медаль на Всемирном Алкогольном Конкурсе в 2001 году в Сан-Франциско.
142
Ёрмунрёкк
Персонаж «Старшей Эдды» (Речи Хамдира) и «Младшей Эдды» Снорри Стурлусона (Sturluson Snorri, 1178–1241). Древнейшее из героических сказаний представлено в «Старшей Эдде».
Историческая основа сказания – события IV века. Историк Аммиан Марцеллин рассказывает (около 390 г.), что король остготского царства у Черного моря Эрманарих (исл. Ермунрекк) в 375 году покончил с собой из страха перед нашествием гуннов.
Готский историк Иордан сообщает (в середине VI в., и, может быть, уже на основе готской героической песни), что братья из племени росомонов, Сарус и Аммиус, напали на Эрманариха и пронзили ему бок мечом, мстя за свою сестру Сунильду (исл. Сванхильд), которую Эрманарих велел привязать к хвостам коней и разорвать на части в наказание за ее измену мужу.
Сказание это известно также из ряда более поздних скандинавских и немецких источников.
143
Саши Сволочковой, Даши Живодяновой и Глаши Субчак…
Имена искажены. По-видимому, речь идет о дамах бомонда. Прототипы не установлены.
144
Мы, конечно, не братья Дубинины, и не похож я на Хаджу Тагиева, хотя и стала мне труба ближе, чем яремная вена. Но ведь и тебя, сосед, не сделала она инженером Семеновым или Игнасием Лукашевичем…
Муса вспоминает исторических персонажей, каждый из которых внес большой вклад в развитие нефтедобычи и нефтепереработки.
Братья Дубинины. В 1823 г. крепостные крестьяне братья Дубинины (Василий, Герасим и Макар) построили около г. Моздока нефтеперегонный завод, на котором перерабатывали тяжелую нефть Вознесенского месторождения. Способ перегонки нефти, открытый братьями Дубиниными, оказал существенное влияние на все последующее нефтеперегонное дело. Самостоятельно, за тридцать лет до открытия американского химика Б. Силлимана (1855), братья Дубинины выделили из нефти керосин – осветительное масло, подобное фотогену.
Хаджа Тагиев (Гаджи Зейналабдин Тагиев) – выдающийся деятель Азербайджана, один из основоположников нефтяной промышленности страны.
Активный и удачливый предприниматель щедро занимался благотворительностью: построил школы, в том числе и для девочек; театр, который функционирует и поныне, учредил газеты и журналы, на его деньги учились в Англии, Германии, России и во Франции сотни молодых людей. Тагиев был награжден многими орденами и медалями Российской империи, Персии и Бухарского эмирата.
Тагиев родился в 1823 году в семье сапожника. В 12 лет начал тесать камень, а в 15 стал каменщиком. Накопив некоторую сумму, Тагиев купил два магазина и занялся торговлей мануфактуры.
Он был одним из первых азербайджанцев, занявшихся перегонкой нефти. В 1870 году Тагиев построил завод с двумя казанами (котлами) по выработке керосина, который в то время пользовался большим спросом, а через два года вложил капитал в нефтедобычу – пробурил первые скважины. В 1886 году основал фирму по добыче и переработке нефти на паях, а в 1897 году – собственную фирму.
В начале XX века Тагиев занялся и ткацким производством: построил крупнейшую в России фабрику по выработке ткани, основал «Хазарское общество мануфактуры». Для ведения торговых операций совместно с другими местными предпринимателями основал в 1914 году Бакинский коммерческий банк и был избран председателем правления этого банка.
В 1916 году основал «Акционерное общество рыбной промышленности Тагиева»: закупил рыболовецкие суда, создал рыбные промыслы, холодильники, заводы по переработке и консервированию рыбы в Азербайджане и Дагестане. К концу 1917 года состояние Тагиева насчитывало 30 миллионов рублей.
Его избирали почетным председателем благотворительных обществ (не только мусульманского, но и русского, и еврейского). За благотворительные заслуги по высочайшему указу ему было присвоено звание действительного статского советника, равное званию генерала и контр-адмирала.
С установлением коммунистического режима в Азербайджане в 1920 году состояние Тагиева было национализировано. Однако в годы советской власти его не преследовали.
Тагиев умер 1924 году в Мардакянах вблизи Баку.
Д.И.Менделеев в Энциклопедическом словаре Ф.Брокгауза и И.Эфрона (1897 г.) в статье «Нефть» посвятил Гаджи Тагиеву отдельный раздел.
Инженер Федор Семенов пробурил первую современную нефтяную скважину на территории Азии, на полуострове Апшерон к северо-востоку от Баку в 1848 году.
Игнасий Лукашевич (Лукасевич) пробурил первую нефтяную скважину в Европе в местечке Бибрка, в Польше, в 1854 году.
«стала мне труба ближе, чем яремная вена» – Парафраза стихов Корана, Сура 50, «Каф», айаты 16 и 20.
145
…разве не передано, что нет лучшей доли для человека, кроме как есть, пить и веселиться, наслаждаясь плодами трудов своих?
Парафраза сразу несколько стихов из книги Екклесиаста, где повторяется эта мысль (2:24; 3:13, 22; 6:2, 12 и др.).
146
Разве не обещаны некоторым сады прохладные, где не иссякают источники, и щекотливое круженье красавиц, чей вздох сладок и свеж каждое утро?
Застрахов перефразирует различные описания Рая, обещанного Правоверным в Коране.
Это описание, в частности, дано в Суре 13, «Гром», 35: «Рай, обещанный благочестивым, – [это сады], в которых текут ручьи, где не иссякают яства и [близка благодатная] сень. Все это – награда богобоязненным, а воздаяние неверным – адский огонь».
Короткая Сура 108, «Каусар» (дословно – «полнота, изобилие») в исламской традиции считается наиболее компактным метафорическим выражением самой идеи Рая.
Вообще же описания Рая встречаются в Суре 18, «Пещера», 30–31; Суре 78, «Весть» (31–34); Суре 52, «Гора», (19–20) и других, где упоминаются «сады и виноградники, полногрудые девы и полные чаши», а праведникам, «возлежащим на ложах», обещаны «черноокие, большеглазые девы».
147
…счастье и стыд не живут вместе – приходит счастье и прогоняет стыд, а гонимый стыдом не бывает счастлив…
Цитата из романа Валерия Хазина «Каталоги Телегона» (2001 г.). Слова принадлежат Пенелопе и адресованы Ментору.
Называя повесть «волшебной», Шафиров, по всей видимости, имеет в виду жанр произведения, которое, по сути, является «восстановленным мифом», повествующим о судьбах сыновей Одиссея – Телемаха и Телегона.
148
как сказано в другой волшебной повести, – пусть французской, и пусть по поводу совсем другого города, – это успокаивает и интригует…
Очевидно, Шафиров имеет в виду книгу Гертруды Стайн «Париж Франция» (1939–1940). Первая фраза книги: «Париж, Франция интригует и умиротворяет».
149
и главное в празднике – воля и представление…
Аллюзия на философский труд немецкого философа Артура Шопенгауэра (1788–1860), «Мир как воля и представление».