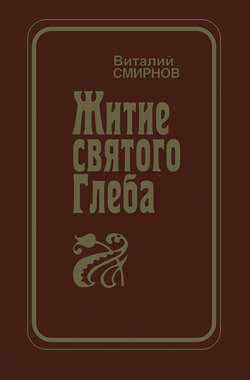Читать книгу Житие святого Глеба - Виталий Смирнов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава I. В Растеряевом царстве
8
ОглавлениеЛетом 1879 года Глеб Иванович жил у своего приятеля Андрея Васильевича Каменского на мысе Лядно близ Чудова, на правом берегу речки Ляденки. В Лядно Новгородской губернии он наезжал и позже. Живал он и на берегу Волхова, недалеко от села Коломно, против пароходной пристани у Селищенских казарм.
Семья Успенских была большая, а заработок, несмотря на каждодневный утомительный труд – всегда к сроку – неважнецкий. Купить небольшой дом было выгоднее, чем снимать помещение. В 1880 году Глеб попросил Каменского уступить ему три десятины по Еремину ручью, намереваясь купить у чудовского священника за двести рублей вполне пристойный дом. Место он хотел выбрать где-нибудь на окраине, чтобы не мозолить глаза хозяину и не быть на виду у тех, кто недреманно наблюдал за «неблагонадежным».
Переговоры с Каменским затянулись, и на лето следующего года Александра Васильевна сняла дом в усадьбе Курцево в деревне Сябринцы, расположенной на возвышенном берегу Керести, притоке Волхова, недалеко от железнодорожной платформы в Чудове. Живописная местность Успенским понравилась. А тут Глеб Иванович получил в «Отечественных записках» неожиданно высокий гонорар, и Александра Васильевна решила воспользоваться случаем, чтобы приобрести приглянувшийся ей дом. Осенью 1881 года Глеб с радостью извещал всех, что дом куплен. Так Успенские, наконец, стали собственниками: четыре комнаты внизу, четыре – наверху. Да плюс изба, правда, на почтительном расстоянии, которую, обиходив жилье, Глеб Иванович перенес и поставил позади дома. Да плюс бревенчатый амбар, который находился рядом с избой. Его Успенский тоже перенес на место компактного проживания, превратив в светлый «домик». Между домом и избой была сооружена легкая постройка с полом и стенами, но без потолка, получившая название «зала». Она стала излюбленным местом деревенских любителей потанцевать. Здесь, под открытым небом, охотно располагались и все те, кто приезжал к Успенским в гости.
Между «домиком» и избой-кухней возник дровяной сарай. Получился уютный «двор», из которого в дождь ли, в снег ли – не возникало необходимости выходить на улицу. Став хозяином недвижимости, Глеб Иванович неугомонно перестраивал ее, руководствуясь не столько необходимыми нормами безопасности, сколько собственной фантазией. Александра Васильевна фантастические проекты «зодчества» не пресекала, предоставляя возможность новоиспеченному домовладельцу почувствовать себя полноправным хозяином, но потом все возвращала на свои места.
Зато в саду, разбитом с левой стороны от дома (если смотреть от шоссе), Глеб распоряжался по собственному усмотрению. Он приглашал людей, сведущих в садоводстве, знающих местные сорта, и с их помощью рассадил сливы, смородину и в непосредственной близости к дому – березы. В глубине участка, около «домика» отвел место для огорода, который – с легкой руки Александры Васильевны – жил полнокровной жизнью. Липы, клены, дубки окаймляли участок и тянулись вдоль дорожки к Керести. На остальном пространстве господствовала трава, периодически скашиваемая мужиками за «подношение».
Как в любой «барской», по ироническому выражению Успенского, усадьбе, на участке был выкопан и зарыблен пруд, пользоваться которым разрешалось всем желающим.
Перед крыльцом «залы» на большой клумбе цвел куст роз, подаренных друзьями писателя с Волхова.
Гости приезжали к Успенским довольно часто, но массовое нашествие было, по обыкновению, в день именин Глеба Ивановича 24 июля.
Глеб не раз приглашал меня посетить его «имение». Мне удалось выбраться к нему впервые в 1882 году, когда жизнь в доме по-настоящему только налаживалась. Глеб Иванович заприметил мое приближение издалека и вышел встречать на мостик за оградой сада. Мы троекратно по-русски облобызались. Едва оглядевшись, я огорошил Успенского невинным, на мой взгляд, вопросом:
– Ну а где же здесь живет Иван Ермолаевич?
Он посмотрел на меня с недоумением и, не вдаваясь в подробности, ответил:
– Э, батенька Иван Силыч, его отсюда не увидишь[2].
Глебу первым делом захотелось показать свои владения. И он повел меня в сад.
Сад совсем юный, поэтому «рекогносцировка местности», как выразился Успенский, оказалась непродолжительной. И, сказав, что «соловья баснями не кормят», Глеб Иванович повел меня к дому.
Гостей в этот мой приезд было немного. Две молоденькие девицы, видимо, местные учительницы, да хмурого вида мужичок, которого Глеб называл соседом. У длинного стола внизу вместе с Александрой Васильевной хлопотала начинающая писательница (тогда, по-моему, в журнале «Слово» появилась какая-то ее повесть) Варвара Починковская, как я понял, близкая к семье Успенских. Представлять друг другу гостей Глеб Иванович не стал, буркнув:
– Познакомитесь за столом.
Стол был по-деревенски прост, не отличался особым разнообразием блюд, но располагал к поглощению сытной пищи. Я налегал на приготовленный Александрой Васильевной капустный пирог с рыбой. Водочка лилась исправно, грибочки после каждой рюмки сами просились в рот. Но такая «смешанная» компания не располагала к разговору, который бы объединил всех, а уж о доверительной беседе с Глебом я и не думал, хотя надеялся, что, когда ему надоест вести обременительные «светские» беседы, он начнет нецеремонно искать уединения.
Девицы во все глаза молча смотрели на Глеба Ивановича. Писательница порывалась продолжить начатый, видимо, до моего прихода разговор с Успенским о ее новом произведении. Она буквально подпрыгивала на стуле, пытаясь вклиниться в общие, приличествующие случаю здравицы в честь именинника. Хмурый мужичок помалкивал, только негромко крякал после каждой рюмки и вытирал рот, усы и бороду большим клетчатым платком.
Глеб Иванович, не любивший официалыцины, все чаще покручивал рыжеватую бородку, его серо-голубые глаза становились все грустнее, а морщинка на лбу, между глаз, приобретала все более страдальческий характер. Обычно шутки у него возникали непроизвольно, но для этого нужна была «зацепка» из общего разговора. Однако его никак не получалось. И тут писательница решила, что пришел ее черед.
– И все-таки, – начала она, – неужели, Глеб Иванович, моя повесть так бездарна, что не на чем глаз остановить?
Мне показалось, что Успенский даже обрадовался, что нашлась тема для разговора, хотя глаза его выражали смешанные чувства: от «ну, да слава богу, прервала затянувшееся молчание» до «черт бы тебя побрал с твоей повестью…»
– А я вам, Варвара Васильевна, и не говорил, что вы бездарны, – пыхнул он папиросой. – Это вы сейчас под наливочку придумали. Писать, то есть держать перо в руках вы умеете. Более того, – он еще раз пыхнул папиросой, – я сказал, что талант у вас, бесспорно, есть. Многое у вас написано отлично.
Девицы, уловив начало какой-то интрижки, вытаращив глазенки, в которых, наконец, проскочил проблеск мысли, передвигали их от писательницы на Глеба, потом с него вновь на зардевшиеся щечки смущенного автора. «Сосед» же, воспользовавшись случаем, крякнул и достал клетчатую утирку.
– Я говорю о другом, – продолжил Успенский. – Почему, например, у вас только один человек живет, а другие совсем не живут?.. Надо, чтобы все жили… И что это у вас за девушка, которая все хотела, как бы лучше, а выходило все хуже?.. Лет через десять таких девушек вообще не будет.
Эта мысль заинтересовала и девиц, и «соседа», который тоже поднял глаза на Успенского.
– И еще, – не ответив на молчаливый вопрос «соседа», начал Глеб. – Почему этот Крамской, – мы с вами знаем, конечно, кто он, почему это он все пьет, а работа у него не выходит по-настоящему?
Писательница было открыла рот, но Глеб Иванович жестом руки остановил ее.
– Разве вы не знаете, отчего у нас нельзя работать по-настоящему?.. Все это надо показать. Чтобы все поняли как следует: какая работа, отчего не выходит… И вообще мой совет – вы это подождите печатать. Все это у вас затронуто так, слегка. А это надо поглубже… Надо, чтобы это ножом прямо в сердце! Вот как надо писать…
При последних словах девицы заметно побледнели, видимо, представив, как это ножом в сердце, а «сосед» вновь воспользовался клетчатым платком. Писательница же еще раз подпрыгнула на стуле, готовясь к полемике… Но в сенях что-то упало, потом зашуршало, и на пороге предстал новый гость. Высокого роста, худощавый, в длинном черном сюртуке, босиком, с завернутыми выше колен брюками и с лучезарной улыбкой во весь рот.
По всему было видно, что здесь он не впервой. Даже «сосед» заулыбался, увидев знакомое лицо, и девицы заметно оживились. Но Глеб опешил.
– Я к вам с Керести, Глеб Иванович. Фарватер прокладывал, – доложил новый гость.
– Но как же можно в таком виде, Семен Семенович, и перед Александрой Васильевной? – посуровел Успенский. – Сейчас же ступайте вымойте и спрячьте свои грязные ноги…
Александра Васильевна выскочила с тазиком в сени, и вскоре Семен Семенович предстал перед нами в пристойном виде, но с неизменной улыбкой на толстогубом лице.
Опять начались тосты. «Сосед» едва успевал утираться. Девицы, одна из которых – полногрудая блондинка с неизменно изумленным взглядом – перешла с наливки на водочку, ощутили в себе необходимость высказаться. Блондинка встала, оправив прилипший к стулу подол платья, и попросила слова:
– Дорогой Глеб Иванович! – Глеб тоже был вынужден встать и взять в руки рюмку. – Мы с вами встретились впервые, но эта встреча останется в нашей памяти навсегда. Вы – человек неповторимой души (Успенский закрутил бороду), доброго сердца и неподражаемого творчества. За вас, Глеб Иванович! За то, чтобы не скудела ваша любовь к людям!
И совсем не по-девичьи опрокинула рюмку. Глеб, глядя на это, почему-то улыбнулся.
Следом попросила слова и «мышка», как я ее про себя назвал, серенькая, с маленькими глазками и будто бы только сегодня проклюнувшимся бюстиком.
– Дорогой Глеб Иванович!..
Успенский не сдержался и с нескрываемым неудовольствием произнес:
– Ох, как он мне надоел, ваш Глеб Иванович!
«Мышка», смекнув, не стала повторять обращение и, повернувшись к Успенскому, скромно произнесла:
– За то, чтобы вы были вечно на многострадальной русской земле!
«Сосед» с удивлением поднял глаза на «мышку» и впервые проронил:
– А ведь молодца! Молодца! – Потом крякнул, вытер не только нижнюю часть лица, но, как мне показалось, и глаза.
Успенский выпил молча, но, кажется, не без интереса посмотрел на «мышку».
Потом подъехало еще два молодых человека. Здравицы продолжились. А когда «сосед», сидевший напротив Успенского, завел разговор про «овсы» и несуразную погоду, Глеб бесцеремонно выдернул меня из-за стола и повел в «залу», где уже был накрыт небольшой столик и стояло два стула.
– Овсы, овсы… – ворчал Глеб. – А я жду не дождусь, когда у меня зацветет сад, когда зашелестят березки, когда в липах загудят пчелы, когда я не буду каждый день думать о пропитании семьи и гнать строки. Я ведь, Иван Силыч, любовь к садоводству получил в наследство от отца. Как и охоту к перемене мест. И, пожалуй, – улыбнулся, – ворчание.
Заметив мой интерес (про отца Глеб мне никогда не рассказывал), он продолжил.
– По своему психологическому складу Иван Яковлевич был типичный растеряевец, но не озлобленный жизненными невзгодами, хотя любил поворчать и порассуждать о душе, которая у него была доброты неизмеримой. По вечерам, отряхнув все дела свои, садился он на скамеечку возле дома, и начинался очередной сеанс ворчания и брани. Ворчать он мог по любому поводу, зачастую забывая, от чего завелся. Поводы эти не могли понять и обыватели подгородной слободки, где жил отец, обихаживая фруктовый сад.
Смысл речей моего отца, чувствовавшего потребность касаться предметов, о которых отвык рассуждать простонародный ум, затемнялась собственным его невежеством, необразованностью, водкой – непристойной его спутницей, и некоторой долей того русского чудачества, которое является у простого человека, зачуявшего в своей голове необыденный ум. Поэтому, понятно, вся слобода считала моего отца человеком тронувшимся, чудаком и пьяницей. Мне, ребенку, тоже не всегда понятен был смысл отцовских речей. Но о чем бы он ни говорил, в его ворчании постоянно слышалось слово «душа», постоянно толковалось о ней, о ее погибели, о том, что ее забыли.
Я не случайно, Иван Силыч, обращаю внимание на эту общую черту отцовских ругательств, потому что она и по сей день много значит для меня, потому что она выходила не из простой болтовни. Вот, к примеру, сидит мой отец на лавочке, в одной рубашке, а рядом – напросившийся в собеседники сосед-купец, который кичился своим богатством. Не сейчас, вот именно в этот вечер. Но Иван Яковлевич вспомнил, что когда-то это было, и ни с того ни с сего начинает: не мирно, не тихо, а сразу задиристо:
– Плевать я хотел на твои богатства. – Сосед в недоумении. А отец как бы ему разъясняет: – Потому что в нонешнее время некуда мне и деть его по душе.
Сосед начинает заводиться:
– То-то, у тебя не густо, так ты и «не надо»!
– Дубина ты моздокская! – уже начинает набирать обороты отец. – Видал я деньги на своем веку, не твоим чета!.. Пропил я их, деньги-то, нищий теперь, а давай ты мне их, так я не возьму-у! Не надо мне их, потому душа не может по нынешнему времени сделать мне указания, куда их деть… Ты вот мне ответь, – изгибаясь фигурой, ехидно, чуть не полушепотом, спрашивает Иван Яковлевич: – Ты на какой рожон деньги копишь? Зачем тебе тыщи? Давай ответ!
– Тыщи-то? – мнется купец.
– Да, тыщи-то! Пятьдесят лет ты деньгу набивал, полсотни годов бился, можно сказать, как собака… Лишней стопочки не пропустил. Как ты теперича их потратишь-то с толком, «по душе»? Отвечай, тогда я могу продолжить с тобой разговор.
– Ах ты башка, башка! – удивляется сосед, так и не подобрав сокрушительного ответа. – Чай, и на это дело мастер был… Ты наживи-ко спервоначалу!
– Ты меня не уедай… Мастер… У меня душа требовала… А тебе, дубине, делают вопрос, ты и отвечай, пивной котел! Не верти хвостом. С умом ли ты можешь их истратить по нынешнему вр-ремени?
– Проломная голова! – горячится купец. – Есть у тебя дети-то, у шишиги?
– Есть дети, – удовлетворенно кивает головой отец. – Ну?
– Ну и у меня есть.
– Ну? – наступает отец.
– Что еще? Что нукаешь?.. Для детей наживаю… Гвоздь каленый!
– Для детей? – переспрашивает отец и, ударив себя по колену, произносит: «Пач-чиму? Пач-чиму для детей? Вобла ты астраханская безмозглая!»
– Дубье ты пустоголовое! – только и находит ответ купец.
– А я, – чувствуя себя победителем, мечтательно произносит отец, – можа, на Дон поеду, на Волгу аль в Сибирь… Людей чужих посмотрю, вольным воздухом подышу… Душе простор дам! Эх, куманек дорогой! – начинает уже иным тоном отец. – Не в тебе одном души нет. Во всем народе ее не стало. Видал ты в горнице у нас портреты родителей моих?
– Видал я твои портреты, – уже примиренно отвечает сосед.
– Седенького старика-то помнишь, ай нет?
– Видывал, видывал, – отвечает купец.
– Так вот это, друг сердечный мой, прадедушка мой, царство ему небесное! Вот у него была душа, да не заказная, а своя… Глупы ли, умны были старички, а как-никак умели жить своей совестью…
Глеб Иванович так увлекся рассказом, изображая все в лицах, а я так заслушался, что мы забыли про застолье.
– Заговорили вы меня, Иван Силыч, – улыбнулся он и поднял, как обычно, на уровне стоящего на столе локтя рюмку. Мы беззвучно чокнулись, похрустели соленым огурчиком, и Глеб продолжил.
– Жизнь моего отца вовсе не так бедна впечатлениями, чтобы его бедный, заброшенный и неразвитый ум не получил потребности раздумывать вообще о жизни человеческой и ценить в ней только свободное развитие нравственных движений души. И до того, как жениться, он долго гонялся за острыми ощущениями, к которым влекла его «душа».
Началось все с того, что он поехал из города к кому-то на свадьбу в село Дубки. А оказался в Дубах. Надо было зайти в кабак, чтобы узнать дорогу. А там сидел дворовый человек и играл на флейте. Через полчаса отец уже угощал его и упросил научить музыке. Обучение это – за угощение и деньги – заняло недели две, после которых и учитель, и ученик оказались в Нижнем Новгороде. Что они делали там и долго ли были, отец никогда не мог толком рассказать. Но уроки закончились после того, как Иван Яковлевич учинил в трактире мордобой половому по поводу селянки. Пострадавший бросился за будочником, а отец – на отходивший пароход. И очутился близ какого-то монастыря. Трогательный звон, сзывавший братию к ночной молитве, размягчил его отягощенную грехами душу, которую он пожелал очистить молитвою. Он сошел на берег, отстоял молебствие и попросил позволения побыть в монастыре для молитвы. Люди там оказались добрые, приняли его с искренней теплотой, он стал поститься и желал принять схиму. Один монах за сходную цену предложил отцу продать вериги и заковать его на веки вечные. Такая перспектива его не устроила, и дело спасения души кончилось пьянством, дракой и бегством. Спьяну и сглупу отец исколесил всю Волгу. В Астрахани познакомился с персианами и собрался ехать в Персию. Учился ходить по выпуклой стороне надутых ветром парусов, но сорвался и разбил бок. Путешествие в Персию отложилось. Тут повстречался Ивану Яковлевичу силач-немец, который поднимал на одном пальце десять пудов. Не ощущая в себе силы молодецкой, отец не дерзнул обучаться цирковому искусству. Немец ограбил его и чуть не убил. Пришлось возвращаться на родину.
Но на этом скитания Ивана Яковлевича не кончились, а продолжались еще многие годы. Из них он вынес уменье играть на гитаре две-три чувствительные пьесы, от которых впоследствии плакала моя матушка, да внешний вид бродячего человека. Конец этих бесплодных скитаний для отца, оставшегося без денег, мог бы оказаться весьма печальным, если бы не «добрый барин», когда-то погуливавший с Иваном Яковлевичем. Он случайно встретил отца в Москве, когда тот в отчаянии собирался продаться в солдаты. Барин взял отца с собою в одну подмосковную деревеньку и определил садовником, поскольку у отца уже были навыки этого дела. Здесь он и женился на моей будущей матери, занимаясь садоводством. Но «душа» по-прежнему влекла его на просторы Волги и Дона, до которых, став семейным, он так и не смог добраться…
Александра Васильевна уже не раз заглядывала в «залу», но не осмеливалась прервать Глеба Ивановича. Потом, когда гул в гостевой комнате усилился, она набралась смелости и пригласила нас в общую компанию. Уходя из «залы», Глеб подытожил:
– Вот теперь, Иван Силыч, вы знаете, откуда у меня склонность к разведению садов…
2
«Хозяйственный мужичок» Иван Ермолаевич, герой цикла очерков «Крестьянин и крестьянский труд», прототипом которого послужил крестьянин, ведший хозяйство Успенских на мызе Лядно, был из другой местности. Но тоже в Новгородской губернии. Писатель, по деликатности, не стал указывать И. С. Харламову на географическую ошибку. – Изд.