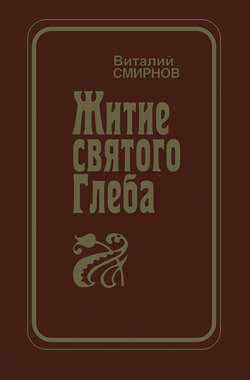Читать книгу Житие святого Глеба - Виталий Смирнов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава I. В Растеряевом царстве
1
ОглавлениеПрежде чем взяться за перо, к которому у меня с детства было тайное влечение, я прошел путь, характерный для многих пролетариев умственного труда. Я был и наборщиком, и метранпажем, и корректором в различных газетных однодневках, сгоревших как мотыльки в пламени свечи. Я даже названий их не помню. Из газет, пожалуй, я имел более или менее постоянный заработок за ловлю блох в «Неделе» Гайдебурова, то ли позднеславянофильской, то ли ранненароднической – тут мне не разобраться.
А потом начал там и блудословить, не придавая своим статейкам ни малейшего значения. Это была литературная поденка, работа вынужденная, из-за куска хлеба, стакана чая и малой толики чего-нибудь покрепче. На большее не хватало, но существовать позволяло. Да и комнатенку снимать тоже: дело-то ведь молодое…
Как назывались мои статейки, опять-таки не помню! Не думаю, что ими зачитывались взахлеб. Но они давали мне возможность поддерживать реноме журналиста и даже журналиста-прогрессиста. Помню, что не раз писал что-то для неприметного московского «Зрителя», в котором в самом начале шестидесятых годов появился один из первых рассказов Глеба Успенского под тургеневским названием «Отцы и дети». Кто кого опередил, не знаю. Но, наверное, Тургенев, потому что Успенский название своего рассказа вскоре изменил.
Тогда же один из рассказов Глеба появился в журнале Льва Толстого «Ясная поляна», по-видимому, по протекции двоюродного брата – Николая Успенского, который писал рассказы из простонародной жизни и был проафиширован как новое литературное светило в статье Чернышевского «Не начало ли перемены?» О какой перемене шла речь, я сейчас тоже не припомню.
Вообще в судьбе Глеба Успенского много провиденциального. Когда ему не было и двадцати лет, судьба толкнула его на пересечение путей с Толстым. А потом и с Тургеневым. Восторгу молодого писателя не было пределов, когда в журнале «Библиотека для чтения», с которым Глеб тогда же начал сотрудничать, его имя появилось в объявлении рядом с Тургеневым. Младший брат Глеба Иван, который родился почти на двадцать лет позднее (они и умерли с этой возрастной разницей), рассказывал, что об этом объявлении начинающий писатель радостно информировал родителей, присовокупляя: «Мне даже самому смешно».
Я позднее прилепился тоже к «Библиотеке для чтения», потом к благосветловскому «Русскому слову», к «Делу», «Отечественным запискам», перешедшим в руки Некрасова. Еще чуть позже, уже в восьмидесятые годы, – к «Русскому богатству», «Слову», «Устоям» – журналам народнической ориентации, которые импонировали мне не столько направлением (хотя народолюбие как непосредственное чувство, но не идеологию у меня нельзя было отнять), а самой бытовой атмосферой – какой-то душевной раскрепощенностью, отсутствием меркантилизма и завистливости к успехам других, всегдашней готовностью, освободившись от срочных дел, посвятить свободное время дружеским возлияниям.
Глеб Успенский тоже принимал участие в этих изданиях и потому пути наши довольно часто пересекались и простирались далеко за пределы редакционных контор, в места, где мы с легкостью необыкновенной освобождались от наших нищенских заработков, блаженно веруя в то, что будет день – будет и пища. К Глебу меня, наверное, тянуло еще и то, что мы оказались с ним земляками, туляками. Это выяснилось вскоре после нашего знакомства с ним. Мы учились с ним в одной гимназии, правда, я чуть позже, поскольку был моложе него.
Тульская гимназия находилась на Хлебной площади, где время от времени воздвигался эшафот для конфирмации и наказания кнутом преступников. Чаще всего это случалось в двенадцать часов, когда была большая перемена и из окон можно было видеть всю процессию и экзекуцию. Там же, в гимназии, я заочно и познакомился с Глебом, имя которого как лучшего ученика красовалось на золотой доске.
Он был очень впечатлительным ребенком и при виде процессии отбегал от окна, боясь услышать страшный крик преступника, раздававшийся после каждого удара. Многие же гимназисты, чтобы лучше видеть экзекуцию, взбирались на штабеля досок и бревен, которые продавались на площади.
Дом Успенских находился на Бариновой улице. В конце нее, несколько в стороне, стоял острог, из которого в определенные дни под трескотню барабанов гоняли этап арестантов. По этой же улице возили на мрачной колеснице преступников, приговоренных к наказанию. Руки их были по локтям связаны, на груди висела черная доска с белой надписью о содеянном ими. Этапников всегда сопровождали толпы народа, которые швыряли на помост пятаки, чтобы задобрить палача.
Глеб не любил вспоминать об этом. Но запах гнилого сукна и черного хлеба, стоявший в остроге и проникавший в острожную церковь, которую посещали гимназисты, надолго остался в его памяти.
Моя матушка Евпраксия Николаевна Васина, коренная тулячка, исколесившая всю Тульскую губернию и имевшая даже какое-то отдаленное родство с семейством Успенских, не раз очень живо воспроизводила мне обстановку их родового гнезда. Прямо, вдали, какой-то сарай, крытый соломою. Рядом с ним, вправо, плетень с дощатою дверцею посредине. Через плетень выглядывают несколько тощих фруктовых деревьев. Это, однако, не сад, а пчельник.
От плетня, справа, тянутся два-три причетнических, крытых соломою, дома. В одном из них, первом от пчельника, жил дьякон Яков Димитриевич Успенский. С левой стороны – небольшой лесок, около которого стоит маленькая деревянная церковь. А возле нее и в леске – могилы с потемневшими деревянными крестами.
Про одну могилу, расположенную в лесу и без креста, рассказывали, что по ночам на ней появляется в виде огонька чья-то неправедно загубленная душа. Рассказывали также легенду о каком-то разбойнике «Чулке», который отличался крайней жестокостью по отношению к богатым и великодушием и добротою к бедным.
Дьякон Яков Димитриевич более походил на священника, чем на дьякона. Это был худенький, лысенький и какой-то угнетенный старичок, начисто лишенный всяких дьяконских достоинств, в первую очередь – силы и громогласия. Говорил он всегда тихо и с хрипотцой, будто страдал легкой простудой. Эта хрипотца, страдальческое выражение лица и какая-то трогательная тщедушность делали его одновременно каким-то жалким и симпатичным.
Церковь и причт находились при селе Богоявление Тульской губернии Епифановского уезда.
У Якова Димитриевича, кроме дочерей, было пять сыновей: Никанор, Григорий, Василий, Иван и Семен. Все они получили образование в семинарии. Только самый младший – Семен, не кончив курса семинарии, поступил на гражданскую службу писцом, но по своей неспособности к канцелярскому труду не пошел далее журналиста с жалованьем 12 – 14 рублей в месяц. Он был высокого роста, крепкого сложения и ему сподручнее было бы ходить за сохою, чем гнуться над канцелярским столом.
Старшие сыновья Якова Димитрича – Никанор и Григорий – прошли и через Московскую духовную академию. Были они незаурядного ума, весьма широких знаний и бесконечной доброты. Особенно отличался этим Григорий Яковлевич, который был профессором греческого языка в Тульской семинарии и которого семинаристы любили до обожания.
Не имея сил ужиться с окружавшей его средою и не видя исхода из своего положения, он, по примеру многих из своих сослуживцев, впал в пьянство. В этот период угара он влюбился в одну малоизвестную провинциальную актрису, женился на ней, бросил пьянство, хотел было зажить по-человечески, но было уже поздно: перенесенные нравственные страдания, притупляемые стаканчиками пенного, как выражалась моя матушка, искренне сочувствуя судьбе Григория Яковлича, так пошатнули его здоровье, что он вскоре после начала счастливой полосы жизни сошел в могилу.
По духовной части пошел и Василий Яковлич, отец известного писателя Николая Успенского: он был сельским священником в Ефремовском уезде Тульской губернии.
Иван Яковлич, отец Глеба, тоже учился в Тульской семинарии и кончил ее одним из первых учеников, но продолжением своего духовного образования не занялся.
Матушка моя была тремя годами младше Ивана Яковлича и хорошо его знала. Он был среднего роста, со светло-русой головой и светло-золотистыми бакенбардами. Глаза у него были голубые, лицо отливало здоровым румянцем. А всегда ровное, спокойное состояние духа и беспредельное добродушие влекли к нему людей, в особенности – женщин, что досталось по наследству и Глебу.
Мать же Глеба, Надежда Глебовна, была дочерью управляющего Глеба Фомича Соколова, который тоже происходил из духовного звания. Его отец – Фома Львович Соколов был священником села Мичкова Тверской губернии.
Глеб Фомич был личностью в городе довольно известной. Жил он скорее как помещик, чем чиновник. На конюшне у него всегда стояла пара заводских выездных лошадей, была карета, был повар, горничная и даже экономка.
Человеком он был весьма своенравным. Матушка моя явно недолюбливала его за ярко выраженную склонность к деспотизму: возражений он терпеть не мог. Да не в чести у нее было и этакое вольнодумство Глеба Фомича, о котором она была доверительно наслышана от супруги его Людмилы Ардальоновны, женщины чрезвычайно кроткой, терпеливой и глубоко сердечной.
В послеобеденное время, в качестве духовного десерта, Глеб Фомич любил громить на чем свет стоит русскую политику, ругал Австрию за ее двуличность и измены, немало доставалось и Наполеону Третьему. Благоразумная Людмила Ардальоновна при каждом новом всплеске политического темперамента Глеба Фомича поплотнее закрывала окна на улицу.
В семье Глеба Фомича Иван Яковлич оказался по рекомендации ректора семинарии. Его пригласили давать уроки детям Глеба Фомича, среди которых оказалась и смышленая, по натуре кроткая Надя, обличье которой наглядно свидетельствовало о том, что многие века татаро-монгольского ига не прошли бесследно для русской крови. Румяное лицо Нади отливало смуглотой, а черные волосы и большие черные и блестящие глаза придавали ей восточный колорит, делали ее интригующе экзотичной. Матушка рисовала Надежду Глебовну, не скрывая своих симпатий, переходя почему-то на тот завораживающий меня полушепот, которым она обычно рассказывала сказки.
Незаметно пробежало время, как учитель окончил курс семинарии, а ученица из девочки в коротеньком платьице сделалась очаровательной девушкой, круто изменившей судьбу Ивана Яковлича. Рухнули его мечты о кафедре и клобуке, уступив место иным желаниям. Бывший семинарист принял предложенное ему Глебом Фомичом место столоначальника в Тульской палате государственных имуществ, уповая на быструю карьеру, примером которой служил его будущий тесть.
«На жизнь Иван Яковлич, – рассказывала матушка, – смотрел светло и чисто. Не то, что ярыжки кабацкие, которые рядом с ним были». Ярыжками она называла всех, кто по каким-либо причинам не нравился ей. «У них и мордочки-то были какие-то особенные. У одного, как сейчас помню, был громадный нос темно-фиолетового цвета, весь в мелких розовых жилках, и маленькие, как у поросенка, глаза. Говорил он, по-утиному крякая. У другого – лицо было плоское, как деревянная лопата, с круглыми, стеклянными, будто бусины, глазами. Третий был круглый, как самовар, а круглою лысою головою похожий на клеща, упившегося кровью. Иван Яковлич на их фоне был, как ясное солнышко на небе».
Скоро он был назначен секретарем: должность по тем временам очень ответственная. Ежедневно, с раннего утра и до урочного часа палата государственных имуществ осаждалась толпами мужиков с самыми разнообразными просьбами и заявлениями. Они толпились в передней, сидели и стояли на ступеньках каменной лестницы и, наконец, просто на улице. Все это шло к Ивану Яковличу. «Что можно, так сделаю, чего нельзя, так и не хлопочи», – говаривал он обыкновенно ходатаю и делал все, что было возможно в рамках закона.
Как вспоминал мамин однофамилец (а может быть, и родственник, точно не знаю) Дмитрий Васин, «Иван Яковлевич был альтруист в полном и высоком значении этого слова. Несмотря на то, что у него у самого было большое семейство, он щедро помогал не только всем бедным и захудалым своим родственникам, но и посторонним. И делал это именно так, что левая рука не знала, что делает правая. Делал не из расчета, не из тщеславия, а просто потому, что, по свойству своей природы, не мог делать иначе. В пример коснусь того же Николая Васильевича Успенского. В семинарии он находился на плохом счету: он ходил по трактирам, пил, играл на биллиарде и плохо учился; ему предстояло исключение из семинарии и затем, самое большее, место дьячка или пономаря какой-нибудь сельской церкви, но Иван Яковлевич не допустил до этого. Он понял, что Николай – человек, во всяком случае, не глупый и из него при лучших условиях жизни может выйти толк, а потому, не обращая внимания на все его проступки и худые о нем отзывы, отправил его за свой счет в Петербург для поступления в Медико-хирургическую академию. Николай Успенский действительно оправдал надежды Ивана Яковлевича: он прекрасно выдержал экзамен и поступил в число студентов-медиков. Чрез год на каникулы он приехал в Тулу и мы, дети, были просто изумлены его перемене. Обыкновенно он являлся к своему дядюшке в рваных сапогах, таком же картузе, в каком-то нанковом длиннополом сюртуке… Это был тип самого отчаянного бурсака… и вдруг!.. Каска, мундир, погоны… Всем этим он был обязан единственно только своему дяде, которого он так старался облить помоями в своих воспоминаниях «Из прошлого»[1].
С двоюродным братом Глеба Николаем Успенским мне встречаться не довелось. Но характеристики его людьми, близко знавшими его, были весьма противоречивыми с заметным преобладанием негативного оттенка как человека, не отличавшегося щепетильным отношением к правде. И когда я в самом начале девяностых годов прочел его мемуарные заметки, объединенные в книге «Из прошлого», эти характеристики нашли подтверждение, в том числе и в факте отношения Николая Успенского к своему благодетелю – отцу Глеба. Оспаривать эти оценки, которые дает Николай Успенский своему дяде, я не имею намерения: настолько они очевидно предвзяты. Впрочем, и Глеб Иванович не любил разглагольствовать по этому поводу, снисходя к слабости двоюродного брата.
Но в заметках этих есть и правдиво воспроизведенные страницы того быта, который окружал юного Глеба. Их мне бы хотелось напомнить:
«На дворе Ивана Яковлевича (отца Глеба Иваныча) ежедневно толпилась масса народу, в которой можно было встретить и цыгана, продающего лошадь, и сельского «голову», увешанного медалями и державшего в руках «обширную лохань с живыми карпиями и баснословной величины налимами, равно как и целое полчище дьячих, пономарей, семинаристов и даже сбившихся с круга профессоров семинарии, преподавателей «герменевтики и обличительного богословия», неверными шагами пробиравшихся сквозь толпу народа, в прелестный сад с клумбами цветов, беседкой, на куполе которой эффектно оттеняемые голубым фоном мерцали яркие звезды, и, наконец, скромно ютившейся у забора баней, где обыкновенно находили себе безмятежный покой все полупьяные родственники Ивана Яковлича, не исключая лиц «сладкой породы» в образе какого-нибудь геркулесовского телосложения протодиакона, напоминающего своей ужасающей персоной мифического Полифема, который некогда хотел с аппетитом поужинать Одиссеем и его спутниками.
Преобладающий состав контингента посетителей отца Глеба Иваныча составляли крестьяне-«однодворцы», стоявшие на очереди «отбывания воинской повинности» и сгоравшие непреодолимым желанием, чтобы им «выстригли затылок», а не лоб, – причем каждый из них запасался известным приношением. Почти все они сплошной массой толпились в длинном и просторном коридоре, который представлял из себя подобие вокзала железной дороги».
1
Автор цитирует воспоминания Дм. Васина «Глеб Иванович Успенский. (Биографическая заметка)» // Русское богатство. 1894. № 6. С. 54–55. – Изд.