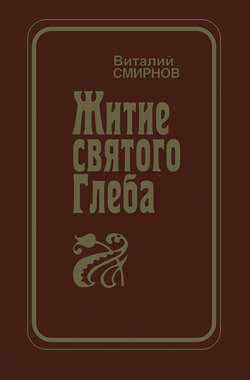Читать книгу Житие святого Глеба - Виталий Смирнов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава I. В Растеряевом царстве
2
ОглавлениеГород наш в бытность мою и Глеба как бы делился на две части: парадную и мастеровую, которые разительно отличались. Парадная в духе градостроительных реформ Екатерины Второй была полукольцом, в центре которого возвышался кремль. А от него, как ступицы в тележном колесе, расходились улицы, куда по вечерам, когда зажигались масляные фонари, стекался наш провинциальный «бомонд», не боясь переломать ноги в рытвинах и канавах, потому что эти улицы были мощеными. Шла сюда и чиновничья, и купеческая братия, и мастеровой люд, чтобы, и на людей поглядев, и себя показав – тоже не лыком шиты! – провести сокровенные минуты подальше от бледных фонарей, блюстителей «пристойного» времяпрепровождения. Здесь, на заросших лебедой и подорожником узеньких улочках, застроенных кое-как сколоченными хибарками, любовь была откровеннее и не боялась даже собачьих оркестров. Здесь ее свидетелями были только звезды, которые казались особенно яркими в кромешной темноте.
Был у нас и свой Невский проспект – Киевская улица – который нас, юнцов, привлекал в особенности. Не только тем, чтобы поглазеть на причудливые наряды, хотя чаще всего мы были к этому равнодушны. А своими кондитерскими, пряничными, цирульнями и даже трактирами, сцены возле которых затмевали чопорность чинных прогулок.
Глеб проучился в тульской гимназии до четвертого класса, а затем, с перемещением отца в Чернигов, поступил в тамошнюю гимназию и окончил курс. Там при участии гимназистов издавал рукописный журнал.
Я не хочу сказать, что гимназия славилась своей литературной жизнью, как, скажем, Царскосельский лицей в пушкинские времена. Но вот и Глеб в гимназические годы потянулся к литературе, да и я упражнялся в сочинении сатирических сценок, материал для которых черпал на тульском Невском проспекте.
Тула прославилась не только своими оружейниками и умельцами, подковавшими «аглицкую» блоху. Была там в шестидесятых годах и весьма колоритная личность управляющего Тульской казенной палаты, которая сочинила сказку о том, как именно здесь, на Упе, один мужик двух генералов прокормил. Глеб Успенский к тому времени успел прославить наш богоспасаемый город, вывернув наизнанку всю его подноготную в «Нравах Растеряевой улицы». Может, и потому еще… «Растеряевка» произвела на Его Превосходительство из Казенной палаты (а это, как вы уже догадались, был Салтыков) столь тягостное впечатление, что худшего места для мрачных прогнозов о своем послед-нем часе он и придумать не мог.
– И будет это непременно в Туле! – не раз в ипохондрии вещал он. – На пустыре, среди прочих отбросов. И оросит мою могилу пропитый монах, которому некуда будет деть пьяную немочь. И вырастут на ней…
А что вырастет, тут уж не хватало и богатой фантазии сатирика.
Пересказывали мне это со слов Плещеева, которому довелось быть свидетелем щедринских пессимистических пророчеств. Глеб Иванович тоже слышал об этом, принимал салтыковские сарказмы молча, по обыкновению устремив глаза куда-то вбок от медленно тянущегося вверх замысловатыми кольцами папиросного дыма. Может, верил, что в наших всеобъемлющих Растеряевках возможно все.
Конечно, гимназические годы не могли стать определяющими наше мировоззрение. Его определила эпоха и университетская среда. Я часто думал об эпохе, которая дала толчок и времени моей молодости, да, пожалуй, и последующим событиям, свидетелем и очевидцем которых я стал вполне созревшим, если не перезревшим, человеком. Это знаменитая эпоха шестидесятых годов, которые в годы моей юности непременно ставились в пику сороковым. Мне постоянно казалось это каким-то нелепым заблуждением, по поводу которого я спорил со многими ретивыми шестидесятниками, не выключая и Глеба.
Я всегда, а сейчас – тем более, считал, что шестидесятые годы со всем их шумным движением были прямым результатом и, так сказать, наследием сороковых. Различие между этими десятилетиями заключалось только в том, что в сороковые годы люди ограничивались одним сознанием своих противоречий и сокрушением о них. В шестидесятые же годы в целой массе общества возбудилась неудержимая жажда во что бы то ни стало найти выход из мучительных противоречий идей с действительностью. Это была эпоха всеобщего покаяния, стремления к обновлению. Люди шестидесятых годов продолжали быть не менее раздвоенными, чем и предшествующее поколение, но они не оставались только скорбными зрителями своей раздвоенности, а боролись с нею, причем каждый по-своему старался устроить жизнь на новых и разумных основаниях, свергнув с себя ветхого человека. Конечно, отделаться от ветхого человека сразу было очень трудно. Оттого выходила путаница и сумятица невообразимая: одни принимали за новые начала старые же, только несколько заново подмалеванные, другие увлекались одною внешностью новизны и видели в ней сущность, третьи впадали в какую-нибудь узкую односторонность, иногда, думая идти вперед, уходили назад, чуть ли не в средневековую глубь, ударяясь в мрачный и нетерпимейший аскетизм или в необузданную чувственность. Но как ни много было в шестидесятые годы диких увлечений и печальных заблуждений, а все-таки, в конце концов, это была честная эпоха – эпоха, не допускавшая никаких компромиссов и требовавшая истинного, а не какого-либо призрачного обновления жизни.
Люди шестидесятых годов были пионерами, наудачу и врассыпную напролом устремившимися пролагать новые пути в неведомые страны. Многие истомились в мучительной борьбе и пали. Многие погибли в самом начале пути. Многие струсили и малодушно обратились вспять. Но все-таки кой-какая тропа оказалась проложенною, кое-что самое непролазное вырублено и указан, по крайней мере, выход из мучительных противоречий предшествовавшего поколения.
Как и многие молодые люди той поры, я мучительно размышлял над тем, что же движет человечество в сторону его прогрессивного развития. Я хорошо был осведомлен о многих теориях прогресса, предлагаемых нашими лучшими умами. Но я не был удовлетворен этими теориями и склонялся к мысли, что для того, чтобы быть истинным, естественным и прочным, прогресс непременно должен исходить из труда и корениться в нем. Всякий иной прогресс ложен, эфемерен и крайне ненадежен.
Представьте себе, что у меня есть маленькое хозяйство, которое составляет единственный источник моего существования. Я тружусь, и земля так вознаграждает мой труд, что я не только обеспечен в необходимом, но у меня от каждого года остается избыток. Этот избыток и есть залог как моего личного прогресса, так и прогресса всего человечества. Избытком этим только и могут обусловливаться, с одной стороны, приобретение средств для улучшения хозяйства, с другой – существование досуга для умственной деятельности.
При таких условиях прогресс должен возрастать в геометрической прогрессии, так как все элементы его, действуя взаимно друг на друга, составляют особенный прогрессивный круг: избыток улучшает хозяйство, улучшенное хозяйство дает еще больший избыток, умственное развитие, приобретенное в часы досуга, в свою очередь действует и на улучшение хозяйства, и на увеличение избытка, а последний доставляет все большие и большие средства для умственного развития.
При таком правильном течении прогресса, если по прошествии какого-то времени бедные хижины непременно заменятся дворцами, жалкие патриархальные орудия – паровыми машинами, знахари – искусными медиками и проч., все подобные плоды прогресса явятся зрелыми плодами, взрощенными на родной почве. В то же время люди, которые будут пользоваться всем этим, будут стоять в уровне такого прогресса: они сами его произвели и сами сознательно, как свое добро, будут сохранять его и заботиться об его возрастании. В этом и заключается естественность и прочность прогресса, свободно возрастающего из недр труда.
Тогда меня не смущало то обстоятельство, что я начинал танцевать уже от какой-то собственности, от маленького хозяйства, которое рисовалось мне в виде уютной, пусть не обширной, но плодовитой фермочки, на которой мы все, моя жена, непременно высокая и красивая и непременно в белой широкополой шляпе, вся семья целиком трудится в поте лица по мере своих сил и возможностей.
Но, когда однажды мою голову обожгла мысль о том, что у меня нет этой фермочки, как нет ее и у миллионов пролетариев, которым тоже нужно прогрессивно развиваться, я пришел в ужас. Теория моя, вынашиваемая месяцами, рухнула в одночасье!
Уже в гимназические годы я увлекался чтением Гоголя.
– Бр-р, ведь он же такой грязный! – говорила мне наставница.
Я с ней не спорил, будучи уверен в своей правоте. Особенно огромное впечатление произвела на меня «Переписка с друзьями». Она подействовала на меня потрясающим образом. Весь мир представился мне погрязшим в греховной, языческой суетности. Не только всякие страсти и похоти, но даже самые невинные развлечения вроде курения табаку, танцев, вседневной болтовни с претензией на светское глубокомыслие стали казаться мне вещами предосудительными, недостойными мыслящего человека и унижающими его. Моя голова горела, буквально перегреваясь от сосредоточенности на одной мысли, что в каждую минуту вся природа человека должна быть устремлена к одному – к нравственному самосовершенствованию, к воплощению в своей особе идеала истинного христианина. Каждое произнесенное слово должно было иметь высшую цель и значение, а за каждым бесполезным разговором следовали угрызения совести. Но так как подобного рода постоянное напряжение всех сил немыслимо в природе человека, то за каждым перенапряжением неизбежно должны были следовать истощения и падения, и тогда всплывали наверх все подавляемые молодые страсти, и начиналась та отчаянная борьба с демонами, которая так прекрасно характеризует средневековый аскетизм.
Не в силах бороться со своими страстями единолично, я мечтал о сообществе единомышленников, полагая, что та же самая борьба, которая так тяжела для человека, замкнутого в себе самом, будет не в пример легче, когда подвижничество будут разделять несколько людей и помогать друг другу в борьбе со страстями и в нравственном самосовершенствовании. К тому же высшая цель мыслящего человека не в одном личном самосовершенствовании, а в том, чтобы всех окружающих делать мыслящими и подымать до своего идеала. Тогда я задумал основать «общество мыслящих людей» с грандиозной целью возродить в мире христианство в его истинном, идеальном смысле. Я рассказал о своих соображениях в первую очередь Ивану Петрову, моему гимназическому другу, который вместе со мной поступил в Петербургский университет. Он увлекся моей идеей и решил приобщить к ее осуществлению своих приятелей. Вскоре мы уже имели семь человек, пожелавших вместе с нами создать общество во имя нравственного спасения человечества. Именно человечества! На меньшее мы не разменивались.
Мы договорились каждую неделю проводить собранья для благочестивых разговоров и взаимной нравственной поддержки. Особенные усилия члены общества должны были употреблять для поддержки и спасения тех наших собратьев, которые изнемогали в борьбе со страстями. К тому же каждый член общества должен был увлечь своих близких и знакомых на дорогу высшего духовного саморазвития.
О, какими мы были фанатиками, юные сумасброды!
На одном из заседаний, которое по моему поручению вел Иван Петров, страсти накалились до предела. Кто-то из присутствующих задал вопрос: «Каковы должны быть отношения между мужчинами и женщинами в свете высшего духовного саморазвития?»
Женщин в нашем обществе до сего момента не было, но мы допускали возможность их участия в нем.
Иван Петров замялся, не зная что ответить, чтобы выручить его, я пустился в метафизические рассуждения.
– Очевидно, – размышлял я, – что между мужчиною и женщиною должна быть только высшая, всеобъемлющая духовная любовь христианина к христианину, такой же нравственный союз для взаимной поддержки, как и между всеми членами общества без различия пола. А так как малейшее нечистое помышление унижает мыслящего человека, то половые влечения должны быть совершенно исключены из отношений мужчин к женщинам.
Тот, кто задал вопрос, оказывается, только этого и ждал. Он остался удовлетворен моим ответом, умиротворенно похлопывая тонкой бледной в голубизну рукой по правой коленке. Это был его любимый жест, жест душевного успокоения.
Но нашлись и скептики.
– Прекрасно! – горячился, вращая черными блестящими глазами и по-утиному вытягивая тонкую шею из воротничка рубашки, настолько тощую, что ей не мог помешать никакой воротничок, Андрей Захаров (он погиб во время Шипкинского перехода). – Но что же будет, когда общество наше возрастет до того, что примет в свои недра все Человечество? И Человечество, следуя принципам нашего общества, отвергнет всякую плотскую связь между мужчиною и женщиною? Тогда Человечество, а следовательно, и общество наше просуществует всего сто лет, пока не умрет последний член его и вместе с ним вымрет все Человечество.
Я готов был ответить самым радикальным образом в пользу своей метафизики. Но меня опередил Иван Петров, который по моим глазам понял, что я собирался сказать.
– Ну и чудесно! Чудесно! – соскочив со стула и подбежав вплотную к Андрею Захарову, воскликнул он. – Во-первых, пусть лучше Человечество, достигнув высшей своей цели и назначения, вымрет в течение ста лет, нежели оно тысячелетия будет погрязать в грехе, суетности и унижении!
Вот посмотрите, что пишут по этому поводу «Отечественные записки». – Иван приблизил почти вплотную к близоруким глазам уже изрядно подержанную книжку. – «Было время, когда сильная страсть к женщине, доводящая человека до сумасшествия или до самоубийства, почиталась признаком избранной натуры. Но это время давно миновало, и такие вулканические страсти возбуждают ныне один смех. Они служат признаком, что человек живет исключительно жизнью самца и у него нет других страстей, которые уравновешивали бы половые наклонности и не давали бы человеку забываться до чертиков. Такой человек похож на корабль без балласта и без руля. Он носится взад и вперед по волнам, куда подует ветер, и малейший шквал может перевернуть его кверху дном».
– А, во-вторых, – продолжал Петров, заложив книжку пальцем, – как дерзаете вы изведать все тайны всеблагого и всесильного Провидения? В награду за такое подвижничество Человечества в Его власти сниспослать Чудо и сделать людей бессмертными. Или же, может быть, провидение устроит, что люди будут рождаться каким-нибудь чудесным образом, помимо плотского греха.
Возразить против этого скептикам было нечего.
Милые, святые, наивные утопии! Как легко мы распоряжались Человечеством, не позволяя себе в переписке (а писать мы любили, потому что верили в священность наших писаний) писать это слово иначе, нежели с большой буквы.
Думали о судьбах Человечества, не предчувствуя того, что самому нашему обществу оставалось существовать считанные месяцы. Общество сочли неблагонадежным и закрыли. «Неужто самосовершенствование человека столь греховно?» – подумал я тогда. Я подробно рассказал о своих поисках путей совершенствования человечества, потому что это типичная судьба любого шестидесятника, прошедшего через аналогичные искания. Они были свойственны и Глебу, в чем он не раз признавался. Да и вся его жизнь свидетельствует об этом.
Мне было любопытно все из жизни Глеба. Но сам он не любил рассказывать о себе даже в трактирных посиделках. Я не могу сказать, что в этом нашем «хождении в народ» он до конца душевно раскрепощался, давая покой своим нервам, всегда натянутым, как струна: над ним постоянно тяготел груз срочной работы, давила необходимость держать ум в рабочем состоянии, чтобы в любую минуту сесть за листок бумаги. Поэтому наши уединенные разговоры особливо не затягивались. Глеб чаще всего, пока не был в ударе, предпочитал помалчивать и прислушиваться к тому, что ему говорили, поджигая папиросу за папиросой. Часто он вообще не принимал участия в разговоре, когда к нашей компании подсаживался кто-нибудь особенно разгоряченный и говорливый или к кому, по словам Глеба, у него была «реакция отторжения». Тогда он сидел, слегка склонив голову налево, подкручивая левой рукой бороду, и рюмку чуть приподнимал над столом вяло, нехотя, не чокаясь, будто пил сам с собой.
Я обычно вопросами ему не докучал, не лез с хмельными излияниями, хотя мне всегда хотелось узнать подробности не столько его писательской жизни (рассказы его я предпочитал не обсуждать, считая, что это не моего ума дело), сколько чисто человеческой, в особенности в ранние годы, понять ту обстановку, в которой он формировался, в которой складывался его внутренний мир, его нравственные представления и убеждения.
Михайловский, например, склонен был считать, что с фактической стороны биография Успенского не любопытна. Что она интересна тем, как его «обнаженные» нервы откликались страданием и радостью на такие явления своей и чужой жизни, на которые никак не реагируют заурядные люди. В эти годы, о которых я сейчас пишу, активно развивалась физиологическая наука, и меня интересовал сам механизм психической организации писателя, резко отличавшийся от той, которая свойственна заурядным людям.
Бытует мнение, что каково болото, таковы и черти. Что не черти родят болото, а болото родит чертей. О болоте, в котором рос будущий писатель, я был частично наслышан. Но мне было неясно, как в таком болоте он сумел сохранить неповторимую деликатность души, не очерстветь, не озлобиться на всех и вся? Какая генетическая сила была заложена в нем, позволившая ему быть не просто терпеливым к людям, но воспринимать их беды и невзгоды как собственные?
Чтобы не выглядеть в глазах Глеба дурацки, таких вопросов в лоб я ему не задавал. В конце концов, это дело интимное, и не каждый может говорить о нем с распахнутой душой.
Близкие Успенского вроде бы не видели в этом ничего особенного и не вникали в механику его внутренней жизни. Я же полагался на случай, когда створки души Глеба приоткроются и он поведает мне о том, что меня так интересовало.