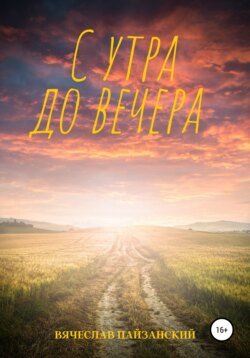Читать книгу С утра до вечера - Вячеслав Пайзанский - Страница 10
С утра до вечера
(роман в 8 частях)
Часть третья
Жизнь кусает
1. Варшава
ОглавлениеВаршава в 1910 году была прекрасна. Это была бывшая столица Польского королевства, а в то время – центр и сосредоточие польской национальной жизни, национальной культуры, национальных чаяний и свершений.
Это был центр не только той части Польши, которая находилась под управлением России, но и частей, входивших в состав Германии и Австро-Венгрии.
Сравнительно небольшой по размерам, город носил печать западно-европейской цивилизации. Париж и Лондон, Берлин и Вена повторялись в Варшаве, как в своей младшей сестре.
Ничего, или почти ничего, самобытного в Варшаве нельзя было найти. Но нельзя было в городе и отыскать каких-либо следов русского влияния, несмотря на столетнее русское правление.
Разве кое-где были наставлены памятники русским генералам-поработителям или полякам-предателям польской государственности. Но это было делом русских насильственных рук, рук царской администрации. Население враждебно относилось ко всему русскому, особенно к офицерам и солдатам.
В магазинах торговый персонал демонстративно не говорил по-русски, а в некоторых вообще не отзывался на русскую речь.
Кафе и рестораны часто покидались посетителями, как только в них появлялась группа русских офицеров, предпочитавших посещать общественные места не в одиночку.
В Варшаве жило много евреев, целые кварталы были заселены ими. Евреи в небольшом числе поддерживали поляков в их ненависти к русским. Большая часть их раболепствовала перед русскими, заискивало в них. Особенно этим отличалась еврейская буржуазия. Рабочие же целиком были на стороне поляков.
Польская буржуазия, наоборот, подчеркивала свою нелюбовь и свое презрение к русским, тогда как неимущие слои рабочих, служащих и крестьян были безразличны или казались такими.
Центр Варшавы и многие кварталы новой застройки представляли сплошной массив четырех и пятиэтажных домов, беспрерывно продолжающихся по многим кварталам.
Окраины старой Варшавы носили характер провинциального города, так же, как и предместье Варшавы.
В городе было трамвайное сообщение, но еще большое значение играли и конные извозчики.
Город освещался в большей части газом, в меньшей электричеством. Варшава была богата зеленью, садами, парками, бульварами и просто улицами-аллеями. Особенно хороши были Уяздовские и Иерусалимские аллеи, Саксонский сад и парк Лазенки, куда не пускали простых людей, для которых предназначались так называемые Беляны – сад, где устраивались гулянья для простолюдинов.
В такую Варшаву попал гимназист Вячка Койранский, изгнанный за свою «нечестивую» поэзию из гимназии в городе К., где он проучился два года.
Койранский и раньше бывал в Варшаве, но бывал очень недолго, часы, самое большее – два дня, не зная города и был к нему безразличен. Приехав сюда учиться, Вячка Койранский почувствовал себя постоянным жителем города, и громада домов, которая должна стать для него постоянным ландшафтом, стала давить на сознание Вячки, придавила его своей непрерывностью, высотой и каменным однообразием.
Черз некоторое время Вячка привык к огромному городу и к его каменным громадам. И тогда, вспоминая первые свои впечатления, подсмеивался над собой, над своей провинциальностью.
Под нажимом большого начальства из учебного округа Койранский был принят в 3-ю Варшавскую мужскую гимназию и поселился у самого старшего своего брата, Ивана, работавшего в почтамте и жившего там же на казенной квартире, на Варецкой площади.
Директор гимназии Некрасов, долго отказывавшийся от приема Койранского, в первый же день появления его в этой гимназии, вызвал его к себе в кабинет и здесь подверг предварительной, больше, чем получасовой, «обработке», закончив ее так:
«Малейший проступок или манкирование учением вызовут немедленное исключение. И чтобы я не слышал о ваших дурацких стихах!»
Впечатление Койранский получил незабываемое!..
Прийдя в этот день с уроков домой, он представлял жалкую удрученность. И ожидал не меньшее от брата, еще не успевшего толком поговорить с ним после приезда накануне вечером.
Брат сразу заметил настроение Вячки.
«Что нос повесил?.. Или гимназия не понравилась?..» – спросил он.
«Начинается!..» – подумал Вячка.
«Получил первую порку, пока авансом», ответил Вячка, готовясь защищаться.
«Ну-ка расскажи!» – потребовал брат.
И когда Вячка подробно изложил директорское назидание и его угрозу, брат вспыхнул:
«И ты смолчал?.. Не защищался?..Здорово же тебя вышколили у Пети».
Вячка был поражен и удивленно смотрел на Ивана.
«Что смотришь? Думаешь, я такой же дисциплинарщик и буду тебя палкой и бранью воспитывать? Нет, брат! Ты уже взрослый, тебе восемнадцатый год, и я буду с тобой обращаться как с товарищем. И никакого надзора над тобой устраивать не намерен… Живи, как хочешь, учись, когда хочешь, но старайся обойтись без двоек… Можешь бывать у кого хочешь, только берегись уличных девчонок… Вот и вся моя нотация!» – так установил Ваня модус вивенди (образ жизни) Вячки.
«И стихи могу писать?» – спросил он.
«Чудак, пиши хоть оперы! И разыгрывай на своей балалайке!» – смеялся брат.
«Нет, я серьезно. Ведь за стихи меня преследуют всюду», – тихо сказал Вячка.
«Если стихи – дрянь, надо преследовать, а если хорошие – в барабан надо бить», смеялся брат.
Вячка не мог показать своих стихов, их у него не было.
«Показать не могу: все что написал, сжег», заявил он.
«Пиши, сколько влезет. Если хочешь, можешь мне показывать», закончил беседу брат.
Так была утверждена конституция для Вячкиной поэзии.
Получились две, совершенно непохожие друг на друга жизненные платформы: гимназическая, с ее жесткими для Койранского условиями – ходи, но не пискни, учись, но не разговаривай, бойся каждой щепки, как бы не споткнуться!.. Другая – домашняя – человеческая, свободная.