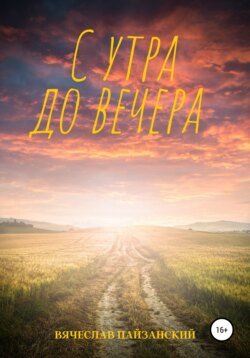Читать книгу С утра до вечера - Вячеслав Пайзанский - Страница 2
С утра до вечера
(роман в 8 частях)
Часть первая
Утро
2. Конец славы
ОглавлениеВ душе Ыячки росло какое-то новое чувство. Оно окрашивало все, что он видел, что он чувствовал, в красивые, даже неповторимо-красивые цвета, плохому придавало хорошее толкование, восторженно принимало хорошее.
Как позднее определил Вячка, это было лирическое направление души, требовавшее все опоэтизировать. Это было огромное, неописуемое счастье!
Мелодии музыкальных пушкинских стихов сливались с собственными мыслями, словами и рифмами.
Вячка писал так много, что исписывал в несколько дней тетрадку. И не перечитывал написанного, совершенно нге интересуясь, хорошо или дурно написаны стихи.
Ему надо было только писать, только выражать свои чувства и думы стихами.
Это состояние отражалось на ученье, на поведенье в классе. Во время уроков не было возможности слушать. Стихи текли и рука с карандашом механически записывала на на клочках бумаги неразборчивые фразы, которых часто он сам не читал, а просто складывал в тетрадке для стихов.
Учителя дивились и за невнимательность отчитыали, а потом ставили единицы. Что мог сказать им Вячка?..
Тем временем слава поэта продолжала сопутствовать Вячке.
Когда он, склонившись над своим барабаном, на корке нотной тетради писал и его карандаш-огрызок быстро бегал или на некоторое время останавливался, а глаза устремлялись вдаль, оркестранты сразу затихали, чтобы не мешать «брестскому Пушкину», как многие часто называли Вячку.
Уже через небольшой срок о Вячке стали говорить и в женской гимназии. В 3-ем классе впервые его пригласили на вечер в женскую гимназию, тогда как только с 4-го класса обычно гимназисты получали такие приглашения. Вячкино приглашение было подписано так: «От имени 4-го класса Лёля Пашкевич».
Вячка смущенно пришел в первый раз на вечер к гимназисткам. Его там ожидал почти весь 4-ый класс. Лёля Пашкевич представилась сама и познакомила со многими своими подругами. Некоторые подруги убежали. Лёля позвала гостя в зал, где готовились танцы. Лёля была маленькая, коренастая девочка, довольно круглая на вид. Ослепительно белый воротничок оттенял ее смуглое лицо с большими выразительными глазами, маленькими губками и ушками и с маленьким же широким носом, приплюснутым, как у императора Павла, портрет которого украшал учебник русской истории Иловайского.
Но Вячке она показалась ангелом, божеством. Она почти не отходила от Вячки и танцевала весь вечер только с ним.
Нужно сказать, что Вячка отменно танцевал и умел, как танцор, понравиться девочкам. Это искусство он постиг частыми упражнениями еще до смерти отца, в крепости, где жила его семья и где все дети учились танцам.
Словом, все было в зале красиво и поэтично. Но Лёля не оставляла Вячке времени на сосредоточения.
В антрактах между танцами гимназистки и гимназисты прогуливались в зале и в коридорах, пели, декламировали, рассказывали смешное.
Девочки подходили к начальнице гимназии и к классным дамам для представления приглашенных ими гимназистов.
Этой участи не избежал и Вячка. Начальница внимательно осмотрела его и сказала Лёле:
«Что это Вы Пашкевич, такого маленького пригласили?»…
Пашкевич что-то пролепетала и тут же отошла, таща за руку Вячку.
В городе было известно, что Евгения Ивановна, начальница женской гимназии, любила высоких девочек и мальчиков. Это был пункт ее помешательства и об этом по городу ходили смешные анекдоты. В одном из них рассказывалось, что Евгения Ивановна в молодости была влюблена в морского кадета, при чем заочно, по требованию маменьки и папеньки, сговорившихся с соседями по имению, что их дети по окончании кадетского корпуса и института обязательно поженятся. Евгения Ивановна давно окончила институт, а нареченный все не ехал за ней. Она прятала его портрет под подушкой, по ночам страстно целовала его, а его все не было: по окончании морского корпуса он отправился в кругосветное плавание, продолжавшееся четыре долгих года. Наконец любимый приехал и поспешил навестить невесту. Евгения Ивановна, увидя его, была разгневана: жених был такого низкого роста, что приходился не до пояса высокой представительной девушке. Она сочла его малый рост за обман и, конечно, через неделю официально отказала ему в своей руке. А вскоре переехала с матерью к своему дяде в нашем городе, где двадцать лет была классной дамой, а потом начальницей гимназии. Обманутая в лучших своих чувствах в молодости, так и не вышла она замуж. Впрочем, это не мешало ей быть весьма уважаемой и горожанами и своими воспитанницами.
Вячка ей явно не понравился.
В один из перерывов между танцами, по просьбе Лёли и еще других, Вячка декламировал стихотворение Пушкина «Стансы» и по своему обыкновению так прекрасно, что вызвал бурю аплодисментов. И тут же – свое новое стихотворение «Другу», посвященное Силе Ляшко, которого уже не было в гимназии, Это стихотворение явно было сочинением самого декламатора и было встречено восторженно.
После этого к Вячке подошла одна из классных дам и, обняв за плечи, подвела к Евгении Ивановне. Что та говорила, Вячка не понял, но слышал: он был на верхушке славы.
А когда Евгения Ивановна встала и поцеловала Вячку в лоб, он убежал в раздевальню и здесь, что греха таить, немного всплакнул от счастья.
После вечера он провожал Лёлю Пашкевич, и у своего дома она его поцеловала в губы. Это было так неожиданно, что он долго не мог разобраться, какие чувства вызвали в нем отношение Лёли и ее поцелуй. В конце концов он решил, что влюблен в Лёлю.
Он стал ежедневно ее встречать у входа в гимназию и провожать домой, неся ее сумку с книгами. Он стал покупать ей дешевые лубочные картинки и на обороте писать коротенькие стихи свои, посвященные ей, вроде таких:
«Лёля! Вы – ангел небесный,
Ваш милый задумчивый взгляд
Мне дарит подарок чудесный
– Любви вашей нежный заряд!»
Но этот «заряд» не тревожил и не осчастливливал Вячку.
Как то уже в начале октября они с Лёлей сидели бугском молу и о чем-то беседовали. Вячка долго смотрел на нее и был поражен некрасивостью ее носа. Без всякого намерения обидеть ее он сказал Лёле:
«У Вас, Лёля, нос, как кнопка от электрического звонка!»
Лёля мгновенно убежала не сказав ни слова. Это был конец любви. Несколько раз Вячка пытался встретить Лёлю около гимназии, чтобы проводить домой, но Лёля уклонялась. Однажды она, сощурив глаза, посмотрела на него и громко выпалила:
«Я с клопами дела не имею!». Это был намек на его рост и месть за нос. Это был окончательный разрыв.
На это не последовало ни слез, ни сожалений: ну, и не надо – и делу конец!
Тем боле, что разные события последовали одно за другим и отвлекли внимание Вячки.
Шел октябрь 1905 года. Революция, катившаяся по России, докатилась и до нашего небольшого тогда города. Рабочии гильзовой фабрики, механических мастерских, типографии и большого железнодорожного узла устроили всеобщую забастовку, а через два дня, после опубликования царского манифеста о даровании первой конституции и свободы слова, печати и собраний, организовали демонстрацию, и с красными флагами, с революционными песнями ходили по городу.
Полицейские попрятались, конных жандармов также не было видно. В день демонстрации, с утра, гимназисты не пошли в гимназию. Они отдельной колонной примкнули к рабочим, шагали с песней, вовсе не революционной, а той, что всегда распевали, когда шли в строю или на прогулку. Женская же гимназия не участвовала в демонстрации. В ней проводились занятия.
Когда демонстрация вышла на Кирпичную улицу, на углу которой находилась женская гимназия, восьмиклассник Левицкий подозвал Вячку и приказал ему по водосточной трубе взобраться к окну второго этажа, попробовать его открыть, влезть в класс, где занимались семиклассницы (выпускной класс), и пригласить их на демонстрацию.
Не задумываясь, Вячка по трубе долез до указанного окна. Ему тотчас же открыла окно сидевшая около него гимназистка и он прыгнул в класс. Там была Евгения Ивановна, Начальница!..
По видимому, ей очень не хотелось выпускать своих воспитанниц, потому что, как оказалось, двери класса были закрыты на ключ, а ключ она держала у себя в кармане.
Она чуть ли не с кулаками набросилась на Вячку, так что тот сначала даже струсил, но потом крик гимназисток и удары в дверь снаружи заставили начальницу открыть дверь. В дверях стояли Левицкий и еще несколько человек, по видимому, из рабочих.
Семиклассницы выбежали из класса, стали открывать двери других классов. Женская гимназия присоединилась к народной демонстрации, к ликованию народа, получившего, наконец, основные свободы, не подозревавшего гнусного обмана царского правительства и его палачей. Когда эта мирная демонстрация подошла к зданию мужской гимназии на Алексеевской улице, раздались выстрелы, но никто не падал, так как стреляли, очевидно, поверх голов демонстрантов.
Но паника началась. Часть рабочих и гимназисты-старшеклассники укрылись на гимназическом дворе, где они все через два часа, после демонстративной стрельбы и ультиматума жандармов, были арестованы. Другие демонстранты, не зная, откуда стреляют, бросились вверх по улице и набежали на отряд полиции, которая, испугавшись, отступила в боковую улицу и пропустила бегущих. С ними были и мы с Вячкой. Мы смиренно уселись в саду дома Горшковых, как будто нигде не были и ничего не знали.
Расплата началась на другой же день. Вячку не пустили в гимназию до решения педагогического совета.
Дело могло закончиться исключением его из гимназии с волчьим билетом, т. е. без права поступления в казенные учебные заведения и на работу куда бы то ни было.
Но Вячку спасли. Несмотря на уверенья Евгении Ивановны, что это Койранский взбунтовал женскую гимназию вместе с Левицким, было представлено начальству свидетельство врача о том, что он с 8 часов утра до 4-х часов дня находился на излечении в его кабинете. И семиклассницы заявили, что начальница обозналась. Исключенный из гимназии восьмиклассник Левицкий даже назвал фамилию мальчика, влезшего в окно, причем того, который был застрелен на гимназическом дворе.
На этот раз Вячка уцелел. Его спасла хозяйка его квартиры Мария Николаевна Горшкова, пользовавшаяся большим весом в городе и легко получившая нужную врачебную справку.
Она почему-то любила Вячку, хотя никогда не давала ему этог понять. И после всего случившегося не упрекнула его в содеянном. Только муж ее, капитан Горшков, долго похохатывал, вспоминая «подвиг» Вячки.
Жизнь потекла по-старому, но что-то в Вячке изменилось. Он перестал дышать только поэзией, стал учиться и перестал появляться на вечерах в женской гимназии.
Он стал религиозным, бывал аккуратно на всех богослужениях в гимназической церкви. Своим прилежанием к дому божию он обратил на себя внимание гимназического священника отца Иоанна и был сделан прислужником в алтаре. На его обязанностях лежали: раздувать кадила и подавать их попу, зажигать и гасить свечи, откупоривать вино, предназначенное для причастия, ходить к просфирне за просфорами.
То ли письма старших братьев и сестер подействовали на него, то ли наставленья инспектора гимназии Шантыря, то ли чудодейственное спасение от, казалось бы, неминучей беды, а вернее все это вместе оказало свое влияние.
Но скоро разразился новый удар, который чуть не доконал Вячку. По вине одного ротозея из 6-го класса, Костьки Смирнова, было раскрыто существование журнала «Колокольчик». К счастью, номер журнала, забытый Смирновым в парте, был выпущен до октябрьских событий. Но в нем красовались подлинные фамилии всех его участников, в том числе и Вячки.
Когда стало известно о провале, все экземпляры журнала, как бывшие на руках, так и хранившиеся у матери Иннокентия Хало, которого уже не было в гимназии, были уничтожены.
Все участники выпуска журнала были исключены из гимназии, а Виктора Чума, назвавший себя главным редактором, – с волчьим билетом.
Не он был главным редактором, а Данилевский, но Виктор пожертвовал собой для спасенья менее обеспеченного товарища: он был сыном владельца чулочной мастерской, прилично зарабатывавшего, а Данилевский – сыном дьячка кладбищенской церкви, пять других детей которого надеялись на старшего брата, что он, получив среднее образований, их вытянет.
Вячка тоже был исключен. Он уже несколько дней не ходил в гимназию, собирался поступать в переплетную мастерскую, содержавшуюся отцом одноклассника Цукермана. И вдруг его вызвал директор гимназии. В кабинете директора сидели отец Иоанн и учитель Ящинский, которого гимназисты прозвали «Морж» за длинные усы, спускавшиеся книзу, как клыки моржа.
На столе директора лежал злополучный журнал, открытый на той странице, где было написано стихотворение Вячки, посвященное умирающему лесу, защитнику людей, их кормильцу и другу, который безжалостно уничтожают некоторые люди, чтобы устроить свое благополучие, вопреки благополучию всех.
В содержании этого стихотворенья, к тому же озаглавленного «Противники народа», была усмотрена революционная идея, хотя Вячка во все время следствия упорно отрицал это.
Теперь, когда он вошел в кабинет директора, отец Иоанн задал, после некоторой паузы, вопрос Вячке:
«Скажите, Койранский, что Вы подразумевали под лесом в своем стихотворении?»
А директор досказал: «Не свободу ли?»
«Только правду говорите,» добавил священник.
Вячка ответил не сразу. Ему показалось, что Ящинский делает ему глазами знаки отрицания. И он, подумав, сказал:
«Мне нечего врать. Я уже исключен и завтра пойду на работу. Только жалею, что моя способность писать стихи принесла это несправедливое наказанье… Разве я, мальчик, похож на революционера?.. Что вы выиграли от моего исключения?»
С этими словами он повернулся и вышел.
Ему было тринадцать лет, но душой он уже был взрослым.
Вечером Ящинский, который теперь жил в квартире уехавших родителей несчастной Лили Сутугиной, зашел к Горшковой, попросил позвать Вячку и показал ему решение Педагогического совета об отмене исключения Койранского из гимназии.
Вячка потом говорил, что это известие произвело на него тяжелое впечатление, как будто он изменил всему коллективу товарищей, исключенных за журнал из гимназии. И он заявил, что в гимназию не вернется. Только уговоры Горшковых, особенно дочерей Горшкова от другой жены, Гали и Сони Ясиняк, убедили Вячку, что ради своего дарования он должен учиться, так как неучи не достойны называться поэтами.
1-го ноября Вячка пришел после долгого перерыва в гимназию. Класс его сторонился. Другие смотрели, как на прокаженного. Старшеклассники не замечали его, учителя явно не сочувствовали.
Что было делать?..
Но Койранский стойко переносил остракизм. Он даже побил товарища по классу Эпштейна за лицемерно-жалостливое и в то же время насмешливое «защитник народа». Отсидев в карцере 2 часа, Вячка еще больше ожесточился и долго был чужим в классе.
Былая слава поэта обернулась против него. Теперь все были против него.