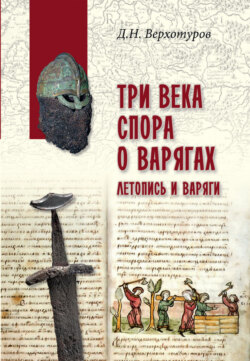Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава вторая. Императорская академия наук – кузница русской национальной идентичности
Петровский центр развития национальной идентичности
ОглавлениеМежду тем не так трудно показать, что эти самые временщики никакого влияния на формирование Академии наук не оказали. Один из основателей Академии наук – И.Д. Шумахер, выпускник Страсбургского университета, был приглашен на должность библиотекаря в 1714 году еще Петром и работал по его поручению и под его непосредственным руководством. Другой основатель и первый президент Академии наук – лейб-медик Л.Л. Блументрост – был еще теснее связан с Россией. Его отец был лейб-медиком при дворе царя Алексея Михайловича, и Лаврентий Блументрост родился в России. Руководство Академии наук было составлено из приближенных Петра.
Ученые приезжали в Россию не по велению из Петербурга, а по рекомендациям других, обязательно известных ученых. Ю.Х. Копелевич, рассматривая процесс приглашения ученых в Петербург, отмечает: «Судя по сохранившейся переписке, Блументрост и Шумахер не вступали в переговоры с безвестными лицами, которые сами предлагали свою услуги, а продолжали опираться на рекомендации признанных авторитетов»[56].
Один из таких авторитетов, Иоганн Менке, был профессором Лейпцигского университета и издателем журнала «Acta eruditorum», дававшего рецензии на все мало-мальски крупные научные труды, – главного научного журнала в Европе того времени, а с 1708 года официальным саксонским историографом. Он рекомендовал историка И.Х. Коли, который и пригласил с собой в качестве студента Г.Ф. Миллера. Профессор в Галле Христиан Вольф был крупным ученым (профессор университета в Галле, известный философ, физик и математик), но вот политического влияния у него в России не было. Вольф был в 1724 году изгнан из Галле пиетистами, которые в свою очередь имели теснейшие связи с Россией. С конца XVII века в университете в Галле начинает систематически изучаться русский язык, а в середине века три германских университета: Лейпциг, Йена и Галле – становятся центрами изучения русского языка, культуры и истории. Немецкий исследователь Эдуард Винтер называет Галле важным пунктом русско-немецких отношений в XVIII веке, особенно в первой половине столетия[57]. Галльские пиетисты, например, намеревались распространить свое учение на восток, в частности в Россию, и с этой целью поддерживали контакты с императорским лейб-медиком Лаврентием Блюментростом. Вместе с тем в Галле А.Х. Франке и Г.В. Лудольфом был в 1702 году организован Seminarium orientale, который должен был изучать языки и культуру Восточной и Юго-Восточной Европы[58].
Дом Шафирова – первое здание Академии наук (с 1724 года)
Пиетисты поддерживали связи с рядом президентов и вице-президентов коллегий, а центру пиетизма в России – церкви Анненкирхе в Петербурге близ Арсенала – покровительствовал сначала Яков Брюс, а затем фельдмаршал и президент Военной коллегии Бурхардт Миних и граф А.И. Остерман, член Верховного тайного совета[59]. Если бы была верна гипотеза о политической подоплеке формирования Академии наук, то мы бы видели, что рекомендации давал глава пиетистов в Галле, профессор теологического факультета Галльского университета А.Х. Франке. Однако рекомендации давал именно Вольф, и в Петербурге к его конфликту с пиетистами относились сочувственно, предлагали переехать и обещали, что в России церковь не имеет той власти, как в Германии.
Переговорами и приглашениями занимался Даниил Шумахер, которого в феврале 1721 года Петр отправил с разнообразными поручениями в Германию, Голландию, Англию и Францию, которые касались как пополнения библиотеки, так и переговоров с учеными. Эта миссия Шумахера завершилась уже в Петербурге, после обстоятельного рассмотрения Петром результатов поездки, составлением списка ученых, необходимых для открытия нового научного учреждения, а также проекта положения. Уже в 1723 году велись переговоры о переезде, закупке инструментов и книг с французским астрономом Делилем, а также с Христианом Вольфом, в которых он согласился стать посредником в найме ученых. Первый контракт был заключен 1 сентября 1724 года с профессором ботаники И.Х. Буксбаумом[60].
Историческое направление в первом составе Академии наук было сформировано первоначально историком И.Х. Коли из Лейпцигского университета и ориенталистом Теофилом-Зигфридом Байером из Кенигсбергского университета. Байера как знатока древностей и восточных языков порекомендовал Христиан Гольдбах, выпускник юридического факультета Кенигсбергского университета, который 1 сентября 1725 года заключил контракт с Петербургской академией наук в качестве профессора права. Байер, несмотря на плохое состояние здоровья и обременённость семьей, согласился на переезд, 3 октября 1725 года заключил контракт и уже 6 февраля 1726 года прибыл в Петербург[61], через три месяца после начала работы академии. Он остался очень доволен предложенными условиями и писал об этом в феврале 1726 года: «Я получил все, что мне могло понадобиться. Установлен такой порядок, что, если кому-нибудь на что-нибудь требуется, он может об этом заявить и тотчас дается приказ это достать»[62]. Весьма красноречивое свидетельство о том, какое значение придавалось новой Академии наук.
В этом месте уместно сделать предположение, почему Петр решил поступить именно так и поручить работы по русской истории немецким историкам. Во-первых, он желал увековечить свои государственные достижения и сделать их известными по всей Европе. Во-вторых, что более важно для нашей темы, он был недоволен существующей летописной традицией и, вероятно, именно киевским «Синопсисом», объяснявшим название «россов» рассеянием их. Эта трактовка не годилась для политических целей совершенно, в первую очередь по причине своей неблаговидности. «Славный росс» не может выводиться из рассеяния. Петр много занимался военным делом и лично командовал армиями в походах и сражениях, и для него, очевидно, слово «рассеяние» было синонимом поражения и бегства.
Петр ввел название своего государства – Российская империя – 22 октября 1721 года, после победоносной Северной войны, вовсе не для того, чтобы в Европе ее воспринимали как «Рассеянную империю». Ему явно требовалось другое объяснение происхождения названия народа и государства, славное и возвышенное, пригодное для утверждения на европейской политической арене.
Но историки, пробовавшие свои силы в составлении российской истории, с этой задачей явно не справлялись. К тому же путаное происхождение «россов», данное в киевском «Синопсисе», не могло быть принято в Европе, в которой развивалось критическое направление в исторической науке. Требовалось вывести четкое происхождение «россов» от какого-нибудь древнего и славного народа. Ради решения этой важной задачи тратились государственные деньги на приглашение и работу в России видных европейских ученых. По существу, в Академии наук создавался центр развития русской национальной идентичности по замыслу и указу Петра.
Была еще одна задача, очень важная для дальнейшего развития русской национальной идеи, – издание газеты. Андерсон огромное значение придавал национальному языку, книгопечатанию и газетам в формировании национального мировоззрения, выделяя в этом именно газету как средство информации о повседневной жизни нации в целом. По его мнению, образование наций и государств в Новом Свете (как в Северной, так и в Южной Америке) было тесно связано с изданием местных газет, что вело к созданию местных воображаемых сообществ. Он напоминает, что с 1691 по 1820 год издавалось не менее 2120 газет[63], и показывает, как местные газеты, издававшиеся в Каракасе, Буэнос-Айресе или Боготе, содержащие важнейшую информацию о ценах, приходящих в порты кораблях и других событиях, создавали местные сообщества, которые позже приобрели политическую форму[64].
В России процесс развития нации шел аналогичным образом и также использовал газету – «Ведомости», а с 1728 года «Санкт-Петербургские ведомости». Изданием первой российской правительственной газеты занимался Г.Ф. Миллер.
Герхард Фридрих Миллер прибыл в Петербург 5 ноября 1725 года, после обучения в двух германских университетах. Сначала он учился в Риптельском университете, а с 1724 года – в Лейпцигском университете, где слушал курс журналистики Иоганна Менка. В июне 1725 года Миллер получил степень бакалавра. В Академию наук он был зачислен сначала студентом, но очень ненадолго. В 1726 году он стал читать в Академической гимназии курс по латинскому языку, истории и географии. 6 января 1728 года по распоряжению президента Академии наук Лаврентия Блументроста Миллер был произведен в профессоры[65]. Отмечая этот факт, отечественные исследователи крайне удивляются этому и относят на счет козней главы канцелярии Академии наук И.Д. Шумахера: «Шумахер умел отблагодарить своих клевретов. Можно привести пример того же молодого Миллера, который из студентов был, с поблажки Шумахера, произведен сразу в профессоры (чего впоследствии Ломоносов не мог простить ни тому ни другому). Причем произведен, по существу, вопреки мнению старших академиков»[66].
Между тем у Миллера между поступлением в Академию наук и произведением его в профессоры были уже важные заслуги. Дело в том, что в 1728 году в типографию Академии наук было передано, одновременно с переименованием, издание газеты «Санкт-Петербургские ведомости» – первой и главной российской газеты. В свое время, при создании академии, не поскупились на затраты, и академическая типография была на уровне мировых стандартов. Однако глава канцелярии Академии наук Шумахер сам ею управлять не мог и потому быстро выдвинул на это дело Миллера, который обладал большими организаторскими талантами, подготовкой журналиста и явно тяготился преподавательской работой в Академической гимназии. С 1728 года Миллер стал издателем самой крупной и самой главной в России газеты, что резко выдвинуло его среди других членов академии. Кроме исполнения заказа Миллер предложил издавать в качестве приложения к «Ведомостям» журнал «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях». Первые выпуски журнала вышли в том же 1728 году и продолжали издаваться до 1742 года[67]. Наконец, 4 июня 1726 года Миллер представил свою первую научную работу по истории русской литературы[68].
Эти «Примечания» были отмечены в качестве важного достижения в записке профессора Бюльфингера от 27 июля 1730 года, в которой содержалось мнение о Миллере: «Хоть г. Герард Фридрих Мюллер и не читал еще до сих пор в Академическом собрании никаких своих исследований, так как его работы, собственно, к тому и не клонятся, однако же составленные и напечатанные им еженедельные «Примечания» успели дать достаточное представление об его начитанности в области истории, о ловкости его изложения, об его прилежании и об умении пользоваться здешней библиотекой»[69].
Сразу после произведения в профессоры Миллер отправился в заграничную поездку. В числе его поручений были сбыт изданных Академией наук гравюр, приглашение ученых и граверов, а также опровержение разнообразных слухов об академии, которые в изобилии распространились по Европе[70]. Побывав в Лондоне, он удостоился чести быть избранным в Лондонское Королевское общество, одно из главных европейских научных объединений.
Итак, Миллер очень быстро стал в центр развития русской национальной идеи как редактор и издатель главной российской газеты, а также занял видное место в деле развития русского исторического нарратива, распространяемого через приложение к газете. Его роль стала очень политически значимой.
56
Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской академии наук. Л.: Наука, 1977. С. 71.
57
Winter E. Halle als Ausgangpunkte der deutsche Russlandkunde im 18. Jahrhundert. Berlin: Akademie-Verlag, 1953. S. 1.
58
Winter E. Halle als Ausgangpunkte der deutsche… S. 8, 32.
59
Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской академии наук. Л.: Наука, 1977. С. 68.
60
Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской академии наук. Л.: Наука, 1977. С. 52, 65, 73.
61
Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской академии наук. Л.: Наука, 1977. С. 92.
62
Цит. по: Курмачева М.Д. Петербургская академия наук и М.В. Ломоносов. М.: Наука, 1975. С. 20.
63
Андерсон Б. Воображаемые сообщества… С. 84.
64
Андерсон Б. Воображаемые сообщества… С. 86.
65
Пекарский П.П. История Императорской академии наук в Петербурге. Т. 1. СПб., 1870. С. 309.
66
Лебедев В. Михаил Васильевич Ломоносов. Р.-н/Дону: Феникс, 1997. С. 55.
67
Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М.: Наука, 1996. С. 376.
68
Белковец Л.П. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII века. Г.Ф. Миллер и А.Ф. Бюшинг. Томск: Изд-во Томского госуниверситета, 1988. С. 58.
69
Цит. по: Лебедев В. Михаил Васильевич Ломоносов. С. 56.
70
Пекарский П.П. История Императорской академии наук. С. 313.