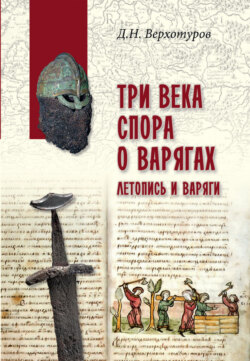Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава первая. Происхождение русского национального нарратива
Киевский «Синопсис» – опора русского исторического нарратива в XVIII веке
ОглавлениеИсследователи не раз замечали, что уже в довольно ранних летописях наряду с описанием событий высказываются различные политические и философские идеи. В середине XVII века в России появляются сочинения несколько иного рода, в которых на первое место становится не перечисление и описание событий, а обоснование определенной политической идеи. Одно из первых сочинений такого рода – очевидно, упомянутый выше «Новый летописец» 1630 года. Его, пожалуй, можно признать одним из самых первых сочинений, в которых излагалась и обосновывалась русская национальная идея, а также закладывались самые первые камни в основание русского исторического нарратива.
Хотя рассмотрение истоков русской национальной идеи для настоящего исследования есть тема побочная, тем не менее нельзя не отметить, что развитие национальной идеи в России шло практически одновременно с европейскими странами, в очень схожих социально-политических условиях грандиозного кризиса. По всей видимости, бурные события Смутного времени, а особенно его политический исход, выразившийся в утверждении на престоле новой правящей династии решением Земского собора и при активнейшем участии патриарха, дали сильный импульс развитию национальной идеи в России. Подобный процесс в то же самое время происходил в немецких княжествах на фоне Тридцатилетней войны[37]. Интеллектуальная элита немецких княжеств тоже вырабатывала понятие «немецкости» и идею национального единства. Эту тему придется оставить в стороне, подчеркнув при этом, что ни в коем случае нельзя считать вслед за европейскими исследователями национализма, будто бы национальная идея в России оформилась очень поздно, только в начале XIX века.
Для исследования спора о варягах гораздо важнее другое сочинение, которое следует рассмотреть более подробно. Это киевский «Синопсис». Пожалуй, нет в русской историографии более важной книги, чем эта. Вместе с тем нет другой такой книги, которой бы посвящалось столь мало внимания. В течение почти ста лет с момента первого выхода в 1674 году и до появления «Краткого российского летописца» в 1760 году и «Древней Российской Истории» Ломоносова в 1766 году киевский «Синопсис» был единственным сколько-нибудь полным и обстоятельным сочинением по русской истории, доступным широкой публике. В течение более полутора столетий он оставался единственным учебником по русской истории, пока его не вытеснили более совершенные книги. Одновременно «Синопсис» в XVII и XVIII веках был одним из самых издаваемых сочинений – он переиздавался 27 раз[38]. Для России того времени, в которой книгоиздание явно уступало европейскому, это был бесспорный рекорд. «Синопсис» можно считать светским бестселлером XVIII века. При этом ни сам он, ни его влияние на историческую науку в русской историографии практически не исследовалось. Более или менее подробный очерк о «Синопсисе» есть только в труде П.Н. Милюкова «Очерки истории исторической науки», и опубликовано на эту тему несколько статей[39].
Нельзя не признать, что влияние этой книги на развитие русской историографии сильно недооценено. Если Николай Михайлович Карамзин своей «Историей государства Российского» определил направление развития русской исторической науки в XIX веке, то, наверное, можно сказать, что «Синопсис» определил ее развитие в конце XVII и в XVIII веке.
Полное название сочинения составлено вполне в духе той эпохи: «Синопсис, или Краткое описание от различных летописцев о начале славенского народа, о первых киевских князьях, и о житии святого благоверного и великого князя Владимира, всея России первейшего самодержца, и его наследниках, даже до благочестивейшего государя, царя и великого князя Феодора Алексеевича, самодержца Всероссийского».
Книга состоит из 116 глав. В ней, в первых 16 главах, описывается «происхождение»[40] славянского народа: о начале древности, о языке, о различных народах-предках и так далее. Следующие 12 глав посвящены княжению первых русских князей от Рюрика до Владимира. 21 глава посвящена описанию жизни князя Владимира и крещению Руси. Эта часть книги завершается главкой «Благодарение Богу от всех росов, в неисповедимом его даре».
Следующая часть из 20 глав посвящена киевским князьям от Владимира до нашествия Батыя. В ней выделяется княжение Владимира Мономаха и вводится глава «О сем, откуда российский самодержец венец царский на себе носити начаша», о происхождении царских регалий. Четыре главы автором отведены на описание монгольского нашествия, а дальше начинается большая часть, посвященная Дмитрию Донскому и Куликовской битве, включающая 29 глав. Это самая большая часть книги, где события получили наиболее подробное описание, включающее, впрочем, описание разнообразных чудес и явлений, вполне в духе летописной традиции.
Рукопись киевского «Синопсиса»
Заключительная часть из 14 глав посвящена разным событиям от правления Дмитрия Донского до составления «Синопсиса». Здесь описываются киевские князья, правившие под монголами, присоединение Киева к Великому княжеству Литовскому, переселение киевского митрополита в Москву и об устроении в Москве патриаршего престола, а также о Чигиринских походах и присоединении Киева к Москве.
Структура «Синопсиса» показывает, что, с точки зрения его составителя, в русской истории было два важных события. Это правление князя Владимира и крещение Руси, а также правление Дмитрия Донского и Куликовская битва. В целом же схематизация русской истории по «Синопсису» выстраивается в такой порядок:
– Древнее происхождение славян.
– Основание Русского государства и правление первых князей.
– Правление князя Владимира и крещение Руси.
– Правление князей от Владимира до Батыева нашествия.
– Правление Дмитрия Донского и Куликовская битва.
– Перемещение центра православия в Москву и присоединение Киева к Московскому государству.
Эта схематизация повлияла, в частности, на труды М.В. Ломоносова в области русской истории, и некоторое ее отражение можно найти даже в современной историографии и учебной литературе. Влияние старой схемы открыто признавал, например, А.Е. Пресняков[41].
А.А. Формозов пишет, что «созданный вскоре после присоединения Украины к России «Синопсис» должен был показать прямую связь Киевской Руси с Московским царством. Великий князь Киевский Владимир рассматривался как первый царь и самодержец, основатель правящей династии»[42]. Однако, рассматривая содержание «Синопсиса», трудно согласиться с такой оценкой. Скорее всего, Формозов несколько модернизировал концепцию этого сочинения, приписав основную роль выведению истории правящей династии. В «Синопсисе» самое пристальное внимание обращается на историю крещения, а также на историю центров православия: Киево-Печерской лавры, ее основания и разрушения, строительства церквей, перемещения центра православия из Киева в Москву. Для автора «Синопсиса» история славян и первых князей выступает подготовительным этапом к появлению центра православия в Киеве, а Батыево нашествие и Куликовская битва выступают как подготовительный этап к перенесению центра православия в Москву. По всей видимости, главной для автора была именно эта сторона русской истории.
На русских историков XVIII века «Синопсис» оказал самое непосредственное влияние, потому что обучение русской истории велось именно по этой книге. Ее штудировали и в Славяно-греко-латинской академии, и в гимназии Петербургской академии наук. Формозов отмечает: «В 1764 году при окончании академической гимназии ученику Василию Зуеву, будущему академику, вручили в награду все тот же «Синопсис»[43]. Поэтому П.Н. Милюков замечает: «Таким образом через школу «Синопсиса» должны были пройти все они, и не будет удивительным, если мы найдем, что дух «Синопсиса» царит и в нашей историографии XVIII века, определяет взгляды и интересы читателей, служит отправной точкой для большинства исследователей, вызывает протесты со стороны наиболее серьезных из них…»[44]
Структура «Синопсиса» выступила в качестве образца для Ломоносова и князя М.М. Щербатова, когда они составляли общие труды по истории России. А через них его косвенное влияние прослеживается в «Истории государства Российского» Карамзина, и дальнейшей историографии. Исследователи более позднего времени отказались от многих положений и утверждений «Синопсиса», от его описаний чудес и видений, но усвоили и развили структуру русской истории – от древнего и славного происхождения русского народа до воссоединения русских земель под властью Москвы. «В основе схемы – утверждение исконного единства русского национального государства и толкование его распадения как случайного, ненормального явления»[45].
Для историков XVIII века значение «Синопсиса» не исчерпывалось только схемой русской истории, которая почти всеми ими (кроме, как это ни странно прозвучит, историков-немцев: Байера, Миллера и Шлецера) разделялась и использовалась, но и его содержанием. На «Синопсис» огромное влияние оказали польские исторические сочинения, особенно сочинение Стрыйковского: «Главным источником Гизеля были не русские летописи, а их пересказ в «Хронике Польской, литовской, жмудской и русской» Мацея Стрыйковского, напечатанной в 1582 году в Крулевце (Кёнигсберге) и известной в ряде русских переводов XVII столетия»[46]. В книге также есть ссылки на хроники Марцина Кромера, Яна Длугоша, на трактат «О двух Сарматиях» Мацея Меховского. В результате обращения к польским источникам, которые в то время не отличались точностью и достоверностью, в «Синопсис» попали многочисленные легенды. В их числе легенда, составленная еще Винцентом Кадлубеком в «Хронике поляков» XIII века, о том, что Александр Македонский знал славян, и легенда, появившаяся во времена Гуситских войн (впервые зафиксированная в 1437 году), о грамоте Александра Македонского славянам, писанной золотом на пергаменте[47]. В «Синопсис» попали и русские легенды: о мести Ольги древлянам, о гибели Олега от коня, об освобождении Белгорода от половецкой осады с помощью киселя (этой истории выделена целая глава – «О Белгороде, како кисилем от осады освободишася»).
Милюков делает по поводу содержания «Синопсиса» едкое замечание: «Таким образом, первый учебник русской истории явился на свет с довольно случайным содержанием»[48]. С этой оценкой сочинения, пожалуй, стоит согласиться. Текст «Синопсиса» давал только самое общее представление о русской истории, обильно перемешанное с легендами и описаниями чудес. Несмотря на встречающиеся в тексте ссылки на русские летописи, книга не могла служить руководством для их изучения, ибо сведения из русских летописей привлекались достаточно редко и главным образом для пересказа упомянутых исторических легенд. Таким образом, «историкам XVIII века, учившимся по «Синопсису» и проникнутым его духом, предстояла, прежде всего, задача – разрушить «Синопсис» и вернуть науку назад, к употреблению первых источников»[49]. П.Н. Милюков, конечно, опрокинул на эпоху «Синопсиса» реалии и представления, сложившиеся много времени спустя, и не в последнюю очередь под влиянием спора о варягах. Перед русскими историками задачи сокрушения «Синопсиса» вовсе не стояло, им и так было вполне комфортно в рамках летописной традиции, в которой были уже все компоненты русского исторического нарратива. Отказ от «Синопсиса» и его последующее забвение было, насколько можно судить, делом вынужденным, произошедшим под влиянием дерзкой немецкой атаки на древнейшую часть истории Руси. Немецкие аргументы трудно было свалить, оставаясь в русле летописной традиции, и потому русским историкам пришлось заняться научным базисом, нужным в том числе и для развития русского исторического нарратива.
В «Синопсисе» есть часть, которая непосредственно относится к спору о варягах. Это первые 28 глав, в которых излагается происхождение славян, призвание варягов и основание Русского государства. Для автора «Синопсиса» подробное изучение происхождения славян не было приоритетной задачей. Этот очерк только объяснял, почему славяне довольно в ранние времена завладели такой большой территорией, и пояснял происхождение названия народа.
Объяснение это было довольно путаным в силу того, что ни автор «Синопсиса», ни авторы польских исторических трудов не проводили систематического исследования древних трудов по географии. Кроме того, здесь излагались явно мифологические родословные русского народа, в духе средневековой традиции, возводящие славян к Афету: «И тако отуда ведати известно подобает, яко Славенороссийский Христианский народ имать начал свойственного родства своего от Афета, Ноева сына»[50].
Концепция «Синопсиса» в вопросе происхождения славян заключалась в том, что все народы, проживавшие на территории, позже принадлежащей славянам, объявлялись славянскими: «Под тем сарматским именем все прародители наши Славенороссов, Мосхов, Россов, Полян, Литвы, Поморян, Волынян и прочих заключаются… От тех же Сармат и Славеноросских той же народ Росский изиде, от него же неце нарицахуся Россы, а иные Алане, а потом прозвашася Роксолане»[51]. По существу, по «Синопсису», один славянский народ происходил от другого, только сменяя название. Эта концепция потом защищалась М.В. Ломоносовым в споре с Г.Ф. Миллером.
Предлагал «Синопсис» объяснения происхождения названия народа. Имя славян произошло от «славы»: «Той же народ расширився на странах полунощных, восточных, полуденных и западных, прочиъ всех силой, могуществом и храбростию превзойде страшен и славен всему свету бысть… от славных дел своих, наипаче же воинских, славяне, же славные зваться начали»[52]. Соответственно, когда славяне распространились по странам, то приобрели от своего рассеяния имя россы: «Ибо яко Славяне от славных дел своих из начала славное имя себе приобретши, тако по времени от рассеяния по многим странам племени своего розсеяны, а потом Россы прозвашася»[53].
Такое простое объяснение вполне устраивало русских XVII и начала XVIII века. Но уже в середине XVIII столетия, когда в России стали лучше известны подлинные сочинения древних географов, в построениях «Синопсиса» стали сомневаться. Дополнительно немецкие ученые привнесли дух критики, подчерпнутой ими в библейских исследованиях, и ими такое происхождение славян было поставлено под большое сомнение. Однако критики не могли предоставить тогда готового решения проблемы происхождения славян. Для этого нужно было проделать огромную работу по анализу сочинений древних и средневековых географов, сопоставлению данных, что требовало больших познаний и усидчивости. Поэтому проблема происхождения русского народа так заинтересовала немецких ученых. Как замечает П.Н. Милюков, «разобраться среди всех этих роксалан, сарматов, цимбров, козаров, восстановить генеалогию россов, мосохов становится соблазнительной задачей для учености, усидчивости или трудолюбия»[54]. Одним словом, именно «Синопсис» поставил ту задачу, вокруг которой и развернулся спор о варягах.
Нужно также указать, что ссылки на древнее происхождение народа имели большое значение для развивающейся национальной идеи в России, поскольку в национальных нарративах древность и автохтонность происхождения обосновывала все политические права нации, существование национального государства и владение им определенной территории. К середине XVIII века в Российской империи национальная идея уже оформилась в основных своих чертах, сложилось мощное государство, распространившее свою власть на огромные пространства Евразии, в несколько раз превосходящие по площади всю Европу. Научный интерес к древности и происхождению народов определенно имел политическую подоплеку и мог иметь политические последствия, в том числе и в России.
37
Лазарева А.В. Национальная мысль в Германии в эпоху Тридцатилетней войны. Автореф. … дис. канд. ист. н… М., 2008.
38
Переиздания: 1674, 1678, 1680, 1714, 1718, 1736, далее 18 переизданий в Академии наук, 1823, 1836, 1861 годы – Милюков П.Н. Очерки истории исторической науки. М.: Наука, 2002, с. 30; А.А. Формозов высказывает предположения об издании «Синопсиса» в 1670 и 1672 годах, а также указывает, что в 1690 году был сделан перевод на греческий, а в начале XVIII века был сделан перевод на латынь (Формозов А.А. Человек и наука. Из записок археолога. М.: Знак, 2005. С. 127).
39
Чистякова Е.В. «Синопсис» // Вопросы истории. 1974. № 1. С. 216–219; Маслов С.И. К истории изданий киевского «Синопсиса» // Сборник Отделения русского языка и словесности Российской академии наук. 1928. Т. CI. № 3. С. 341–348.
40
Взятие слова «происхождение» в кавычки означает донаучное представление о генезисе славян, изложенное в «Синопсисе».
41
«Позднейшая историография XVIII и XIX веков сильно от нее зависела, да и до сих пор зависит» (Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т. 1. Киевская Русь. М.: Соцэкгиз, 1938. С. 2).
42
Формозов А.А. Человек и наука… С. 128.
43
Формозов А.А. Человек и наука… С. 133.
44
Милюков П.Н. Очерки истории исторической науки. М.: Наука, 2002. С. 30.
45
Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. С. 2.
46
Формозов А.А. Человек и наука. С. 128.
47
«Тем же славы ради да и трудов воинских дал Александр Царю Славенскому привилеи или грамоту, на паргаменте златом написану, во пред Рождества Христова триста десятого лета» («Синопсис, или Краткое описание…». СПб., 1762. С. 3).
48
Милюков П.Н. Очерки истории. С. 33.
49
Милюков П.Н. Очерки истории. С. 30.
50
Синопсис. С. 2.
51
Синопсис. С. 10–11.
52
Синопсис… С. 3.
53
Синопсис… С. 8.
54
Милюков П.Н. Очерки истории… С. 36.