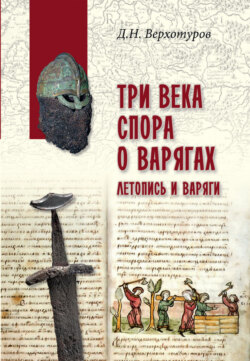Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава третья. Первый спор о варягах
Вызов Герхарда Фридриха Миллера. русскому историческому нарративу
ОглавлениеВ общем, труд Миллера в первом споре о варягах оценивался с точки зрения русского исторического нарратива и действительно ему не подходил совершенно, что и послужило причиной остракизма в отношении Миллера и его работы.
Во-первых, русский исторический нарратив, и в летописях, и в киевском «Синопсисе», и в во всех последующих работах, утверждал простую и прямолинейную концепцию русской истории: древние и великие славяне создали издревле большое и мощное государство, в котором правила, по существу, одна династия, если принимать во внимание определенное родство Романовых с Рюриковичами. Русская земля, русский народ, православие и правящая династия были в такой тесной связи между собой, что часто выступали как выражения одного и того же понятия, четко не формулируемого, но явно ощущаемого, обычно называемого русским патриотизмом.
С этой стороны русский национальный нарратив имел неоспоримое преимущество – он был прост и понятен, легко доводился до ума и сердца любого русского. Концепция Миллера не могла с ним конкурировать в этой сфере педагогической назидательности хотя бы потому, что была сложна. В ней Русское государство сложилось из разных компонентов, с участием нескольких различных народов, не очень понятным образом. Для полного его понимания требовался довольно высокий уровень начитанности и эрудиции. По этой причине концепция Миллера имела объективные ограничения в распространении и не могла стать ядром широкого исторического образования.
Во-вторых, русский исторический нарратив настаивал на том, что государство Русское всегда было только и исключительно одно – то самое, созданное Рюриком и его потомками. Русь-Россия была только одна и существовала непрерывно от основания и до наших дней. Любые разногласия, раздрай и внутренняя борьба, такие как период раздробленности или Смутное время, получали в рамках нарратива сугубо негативное значение. Из русского исторического нарратива, несмотря на постоянные отсылки к славянским древностям, также совершенно выпали западные славяне, в первую очередь чехи и поляки, создавшие свои государства, а также со временем принявшие католичество.
Это обстоятельство, конечно, имело свои основания. Сама по себе идея одного-единственного за всю историю Русского государства имела огромный политический потенциал по части утверждения национального единства и в этом смысле наилучшим образом соответствовала главной задаче любого национализма – создать и укрепить воображаемое сообщество нации. Русский нарратив рисовал поражающую воображение картину национального единства с глубокой древности. Концепция же Миллера к этой задаче совершенно не годилась, поскольку в ней утверждалось, что славянских государств на территории России было несколько и только одно из них со временем приобрело гегемонию и создало историческую Русь. Сразу возникало и не могло не возникать множество вопросов и сомнений вроде того, почему гегемоном стало это государство, а не другое, а почему не Польша или какое другое славянское государство. На сомнениях и вопросах воображаемое сообщество не построить.
В-третьих, из этого же тезиса вытекало категорическое неприятие русским национальным нарративом мысли о том, что русской землей когда-нибудь могло владеть другое государство или какой-то другой народ. Нарратив, как было сказано выше, обосновывает исключительные политические права нации на владение и распоряжение какой-то территорией, в нашем случае огромной и чрезвычайно богатой. Так что конкуренты, пусть даже и в давней истории, русскому нарративу были ни к чему. Другие народы могли быть в России, но только на правах добровольно признавших русскую власть, и никак иначе.
Миллер же, напротив, утверждал, что русской землей владели до славян и финны, и гунны, и скандинавы, что, конечно, также не могло не порождать сомнений и вопросов, объективно подрывающих воображаемое сообщество русской нации и, самое главное, ее суверенные политические права на территорию.
Принятие концепции Миллера было бы событием с далекоидущими политическими последствиями. Изменение взгляда на историю привело бы к полной перестройке и национального мировоззрения, и государственного устройства с труднопредсказуемым итогом. Для подобного понимания истории требовались все же некоторые политические основания. Концепция Миллера о призвании скандинавских варягов и их последующем растворении среди славян могла бы получить признание, скажем, если бы в 1809 году Россия захватила бы не только Финляндию, но и всю Швецию целиком. Но таких оснований не было, не появились они и впоследствии.
Так что нужно подчеркнуть, что политические мотивы, ярко проявившиеся уже в первом споре о варягах, были весьма и весьма вескими. Победа русского национального нарратива, сформулированного тогда киевским «Синопсисом», имела свои причины. Это была именно победа национального исторического нарратива, теснейшим образом связанного с государством, его существованием и суверенитетом, а вовсе не победа одного гениального Ломоносова над «немецким засильем».
Правда, нужно отметить еще два обстоятельства. Во-первых, победа нарратива была куплена довольно дорогой ценой отказа от научного подхода в истории, что стало потом одной из особенностей русской историографии. Научные аргументы допускались в той степени, в какой они не могли повредить нарративу, как-то подрубить или повредить его основные опорные столпы. Это сильно замедляло и затрудняло развитие русской исторической науки, поскольку за каждую сферу применения научной методологии приходилось вести нелегкую борьбу, поскольку дамокловым мечом над такими работами висело ломоносовское «…нет ли в ней чего России предосудительного».
Во-вторых, как бы там ни было, а Миллер нащупал главное уязвимое звено всего русского исторического нарратива – призвание варягов. Это настоящая ахиллесова пята в нем, в целом весьма удачно скроенном и крепко пошитом, потенциально способная подорвать всю его конструкцию, ибо если допустить, что варяги были шведы, насильно навязавшие свою власть или же пришедшие править по приглашению, то от этого допущения рушатся основные опорные столпы национального мировоззрения.
Причем возникла непростая и очень напряженная ситуация: одного лишь отказа от научного метода для защиты этой ахиллесовой пяты недостаточно. У любого национального нарратива есть также своего рода экспортное применение, то есть он должен в определенной степени, целиком или частично, признаваться и в других странах. Если же просто провозгласить, что варяги – это славяне и никаких шведов в Руси от Черного моря до Балтийского никогда не было, не утруждая себя доказательствами и ссылками на письменные источники, то этот вариант в Европе принят не будет с вытекающими политическими последствиями. Далее, просто отгородиться от Европы и ее исторической науки также не получится, поскольку с европейскими странами были и остаются интенсивные политические и экономические связи, многие русские учились и учатся в европейских университетах. Таким образом, всегда существуют каналы, через которые европейцы могут «смущать умы» русских людей явным несоответствием свидетельств письменных источников с утверждениями из «Синопсиса» или какой другой работы. Из этого также вытекает и «чего России предосудительного», и различные политическими последствия.
Миллер, таким образом, бросил вызов русскому историческому нарративу, заставив его сторонников заняться интенсивной работой на тему того, каким образом создать научные основания для славянства призванных варягов. Сам Миллер пал в неравной борьбе, но его знамя вскоре было поднято другими исследователями, охочими до смущения русских умов.