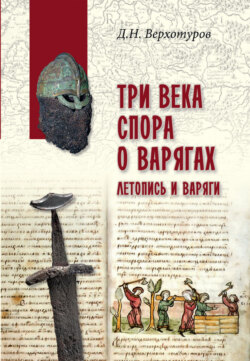Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава третья. Первый спор о варягах
Первый спор о варягах
ОглавлениеИтак, по случаю тезоименитства Елизаветы Петровны было решено устроить торжественное собрание Академии наук с речью о происхождении имени и народа российского, а также, видимо, ученым диспутом на эту тему. Политический смысл этого действа был довольно очевиден: Академия наук должна была провозгласить, сугубо научно, конечно, древность и величие народа российского.
В выборе члена академии для произнесения торжественной речи с самого начала были трудности, как это следует из переписки И.Г. Теплова и Шумахера, и по самому первому замыслу речь должен был читать Ломоносов. Однако в письме от 9 февраля 1749 года Шумахер высказывается против этой кандидатуры: «Очень бы желал, чтобы кто-нибудь другой, а не г. Ломоносов произнес речь в будущем торжественном заседании, но я не знаю такого между нашими академиками…»[121] По всей видимости, академия должна была представить ученый диспут, ибо Шумахер так говорит о качествах оратора: «Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален, чтобы иметь силу для поражения безжалостных насмешников»[122]. Учитывая крайне напряженные отношения между академиками, даже торжественный ученый диспут заранее обещал быть острым и переполненным взаимными нападками.
Далее Шумахер перебирает кандидатуры, причем Миллер даже отвергается, поскольку он был на тот момент профессором университета. По рассмотрению кандидатур Винсгейма, Рихмана, Бургаве и Кратценштерна Шумахер всех их отводит и все же рекомендует Миллера для произнесения торжественной речи.
Как следует из письма Шумахера от 10 августа 1749 года, Миллеру было предоставлено право свободного выбора темы для торжественной речи, причем это исходило непосредственно от президента академии[123]. Это интересный и важный момент. Во-первых, первоначально все же даже в торжественном выступлении предполагалась относительная свобода научного мнения. Во-вторых, характерно то, что Миллер взял в качестве темы именно такой вопрос, осознавая его важность и значимость для русской истории.
К этому моменту Миллер не представил речь в окончательном виде, а предъявил только предварительный вариант на латинском языке, который 7 августа 1749 года Шумахер переслал Теплову в Москву, на просмотр президенту Академии наук. Как следует из письма Шумахера от 17 августа 1749 года, президент распорядился передать речь на суд профессоров. Судя по дальнейшей переписке, дальше работа пошла коллективная. В письме от 21 августа 1749 года говорится: «Они уже работают над ней и сделают так, что все останутся тем довольны, как и г. Миллер»[124]. Редакторами или соавторами стали Фишер, Штрубе де Пирмон, Тредиаковский, Ломоносов, Крашенинников и Попов. Однако уже через три дня стало ясно, что работа встала из-за упорства сторон. Шумахер в письме от 24 августа 1749 года пишет: «Г. Миллер не хочет уступать, а другие профессора не хотят принимать ни его мнения, ни его способа изложения»[125]. По всей видимости, профессора отвергли речь Миллера, поскольку вскоре после этого тот обратился к Разумовскому с просьбой назначить повторное рассмотрение своего сочинения. 1 сентября 1749 года И.Г. Теплов, находившийся в Москве, переслал указ Разумовского о начале повторного рассмотрения.
Дискуссия резко обострилась после того, как торжественное собрание Академии наук было отменено. Шумахер в письме от 6 сентября сообщал: «Некоторые даже предполагали, что собрание отменено по представлению комиссара Крекшина, которого мнение против миллеровского о происхождении господ русских»[126]. На следующий день он подтвердил, что все члены академии считают диссертацию Миллера причиной отмены собрания. Позднее, в 1750 году, Миллер в письме к президенту академии писал, что Шумахер в ходе обсуждения давал Крекшину читать его речь и доводил его суждения до сведения академиков[127].
Поскольку новое собрание было назначено на 27 ноября 1749 года, то Академия наук стала готовиться к новому заседанию и править речь Миллера. В письме от 11 сентября 1749 года Шумахер советует Теплову приказать каждому профессору давать личные мнения по поводу диссертации Миллера. Вот тогда Ломоносов написал свой первый репорт и отправил его в канцелярию Академии наук 16 сентября 1749 года. Он прямо пишет в начале репорта о мотивах рецензирования: «Указом ея величества из Канцелярии Академии Наук велено сочиненную господином профессором Миллером речь о происхождении имен и народа российского мне рассмотреть, нет ли в ней чего России предосудительного…»[128]
На основании репортов членов академии Шумахер составил свое мнение о диссертации Миллера, что видно по фразе из его письма от 16 сентября 1749 года: «С самого начала диссертация г. Миллера не имела чести мне понравится, но я не находил ее столь ошибочной, как описывали гг. профессоры и адъюнкты»[129]. Это сыграло свою роль в административном разрешении спора. Именно в этом письме сочинение Миллера впервые именуется диссертацией, а не речью. Это был переломный момент. Дело с самого начала было политическим, ибо было связано с чествованием императрицы, но постепенно, под давлением интриг и склок внутри академии и вне ее, оно плавно перетекало из рассмотрения торжественной речи в рассмотрение исторического сочинения.
23 сентября 1749 года состоялось первое из 29 заседании, посвященное детальному разбору диссертации Миллера. В этот день выступил Ломоносов, который предложил Миллеру читать свое сочинение и тут же обсуждать ее. Кроме этого, Ломоносов сразу же пообещал опровергнуть все построения Миллера и доказать происхождение русов от роксалан[130]. Это мнение Ломоносов бесспорно взял из киевского «Синопсиса», который утверждает: «От тех же Сарматских и Славенороссийских… той же народ Российский изиде, а от него неци нарицахуся Россы, а иные Алане, а потом прозвашася Роксолане»[131].
28 сентября канцелярия Академии наук приняла решение уничтожить уже отпечатанные экземпляры речи Миллера[132]. Уже переплетенные книги были расброшюрованы, а некоторые листы перенабраны и перепечатаны. В свет вышла только ода Ломоносова. Это, по всей видимости, является отражением решения отменить выступление Миллера и передать право на торжественную речь профессору Рихману. Вероятно, это мыслилось окончанием дела, однако 18 октября того же года Ломоносову пришло указание канцелярии до 23-го числа составить возражения на диссертацию Миллера, что им и было сделано. Это второй, более расширенный репорт, в котором Ломоносов подробно излагает свою позицию. Именно в нем впервые появились некоторые, позднее широко распространенные идеи и представления.
23 октября началось чтение возражений Ломоносова в Историческом собрании, которые продолжились 24, 26, 27, 30 октября и 3 ноября. Еще три дня, 6, 7 и 9 ноября, продолжалось уже обсуждение диссертации Миллера[133]. После этого Ломоносов исхлопотал себе освобождение от участия в заседаниях и продолжал следить за ходом дискуссии дома. Значительная часть дебатов прошла без него. В декабре заседания были прерваны из-за болезни Миллера и возобновились уже в марте 1750 года – 1, 2, 5 и 6 марта, на которых Ломоносов присутствовал.
На этом спор вокруг диссертации завершился без особых последствий, однако чуть позже он подвергся административному взысканию. 20 июня 1750 года Миллер был уволен с поста ректора университета под предлогом скорейшего окончания сибирской истории, которая предусматривалась его контрактом историографа. Вместе с этим ему было вменено в обязанность читать ежедневные лекции по истории. Миллер попытался оправдаться тем, что ему необходима подготовка, но это его прошение осталось без последствий.
Ломоносов воспользовался ситуацией и написал 21 июня 1750 года третий рапорт о работе Миллера со своими окончательными выводами:
«Ибо 1) должно опасаться, чтобы не было соблазна православной российской церкви от того, что г-н Миллер полагает поселение славян на Днепре и в Новгороде после времен апостольских…
2) Из сего не воспоследствовала бы некоторая критика на премудрое учреждение Петра Великого о кавалерском ордене Святого апостола Андрея Первозванного…
3) Происхождение первых великих князей от безымянных скандинавов… не токмо в такой речи быть недозволительно, но и всей России перед другими государствами предосудительно, а российским слушателям досадно и вельми несносно быть должно»[134].
Как видно, Ломоносов еще раз подчеркнул политические моменты, очень серьезные для того времени: сомнение в легенде о пришествии апостола Андрея на Днепре и в основаниях учрежденного Петром ордена Андрея Первозванного, выведение происхождения великих князей от «безымянных скандинавов». По всей видимости, этот репорт Ломоносова сыграл свою роль в дальнейшей судьбе Миллера.
8 октября 1750 года было внезапно созвано собрание в академии, на котором Миллеру были выдвинуты такие обвинения:
Остался в подозрении по переписке с Делилем.
Не поехал на Камчатку, а послал вместо себя Крашенинникова, а сам, притворяясь болезным, как то известно было тогда, остался в Сибири. Уговорил Гмелина уехать на службу герцога Вюртембергского.
Сочинил диссертацию, разбор которой отнял время у академиков.
Называл в лицо графу Разумовскому Теплова клеветником и лжецом.
Членов академической канцелярии обвинял в пристрастии и несправедливости[135].
Вот по этим обвинениям Миллер и был разжалован в адъюнкты с жалованьем в 360 рублей в год. Правда, в таком положении Миллер пробыл недолго, уже 21 февраля 1751 года он был указом Разумовского прощен и восстановлен в своем звании академика[136].
Вот эти события и считаются первым спором и варягах. Хотя в отличие от последующих двух дискуссий обсуждение работы Миллера шло в узком кругу членов Академии наук, тем не менее историографическое значение этого первого спора оказалось весьма велико. Именно в нем впервые появились идеи, которые потом надолго закрепились в русской историографии, и, в частности, появился норманизм, основные положения которого, впрочем, сформулировал вовсе не Миллер, а Ломоносов, представивший их в качестве позиции своего оппонента специально для удобства побивания.
121
Цит. по: Пекарский П.П. Дополнительные известия для биографии Ломоносова // Приложение к VIII т. записок Императорской академии наук № 7. СПб, 1865. С. 43.
122
Цит. по: Пекарский П.П. Дополнительные известия для биографии Ломоносова // Приложение к VIII т. записок Императорской академии наук № 7. СПб, 1865. С. 25.
123
«Г. президент приказал Миллеру четыре месяца тому назад приготовить речь для торжественного собрания, представив на его волю избрать какой угодно ему предмет» (Цит. по: Пекарский П.П. Дополнительные известия для биографии Ломоносова.// Приложение к VIII т. записок Императорской академии наук № 7. СПб, 1865, с. 46).
124
Цит. по: Пекарский П.П. Дополнительные известия. С. 48.
125
Цит. по: Пекарский П.П. Дополнительные известия. С. 49.
126
Примечание Пекарского: «В эту версию событий верил и сам Миллер» (Цит. по: Пекарский П.П. Дополнительные известия. С. 49)
127
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 547.
128
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений… Т. 6. С. 19.
129
Цит. по: Пекарский П.П. Дополнительные известия… С. 50.
130
Пештич С.Л. Русская историография XVIII века. Ч. 1. Л.: ЛГУ, 1961. С. 224. Удивительно, что в Летописи жизни и творчества Ломоносова это заседание и это выступление не упомянуты, несмотря на то что есть, например, многочисленные указания о наблюдении им «грозовых явлений».
131
Синопсис, или Краткое описание… СПб., 1762. С. 11.
132
Однако часть печатных экземпляров речи Миллера все же сохранилась, и один из них хранится в фондах Государственной публичной исторической библиотеки в Москве.
133
Летопись жизни и творчества М.В. Ломоносова… С. 149–158.
134
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений… Т. 6. С. 79.
135
Пекарский П.П. История Императорский академии наук. С. 364.
136
Пекарский П.П. История Императорский академии наук. С. 364–365.