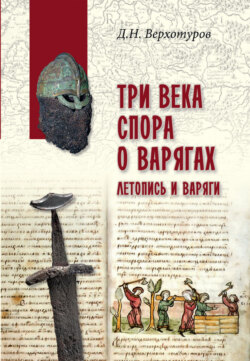Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава вторая. Императорская академия наук – кузница русской национальной идентичности
ОглавлениеУтвердив тезис о том, что русский исторический нарратив имел летописные истоки и задолго до первого спора о варягах получил солидные основания, мы должны объяснить, почему это Петр, всю жизнь требовавший составления новой летописи, в конце жизни сделал крутой поворот и пригласил европейских ученых, в том числе и историков. В историографической литературе этот резкий поворот, который, вне всякого сомнения, имел свои веские причины, никак не объясняется, если не считать ссылок на реформаторский пыл Петра, разрыв с прежними традициями, стремление к европеизации и тому подобные объяснения, которые, в сущности, ничего не объясняют.
Петр, безусловно, имел веские причины к основанию Императорской академии наук, коль скоро он нажимал на скорейшее приглашение видных ученых и пошел на значительные затраты для организации Академии наук и ее обустройство. Петербургская академия наук была единственной научной организацией в Европе, имевшей свой собственный бюджет, который пополнялся ежегодно таможенными сборами в лифляндских городах. Причем Петр особенно настаивал на том, чтобы выделенные на академию 24 тысячи 912 рублей в год всегда оставались за ней и ни при каких условиях не могли быть затрачены на другие цели. Остальные научные организации жили за счет издания книг и календарей. При этом академия платила полноценное жалованье ученым, чего в других европейских академиях не было. Петербургская академия наук предоставила приглашенным европейским ученым отличные условия для работы. В их распоряжении были хорошие библиотеки, наборы инструментов, оборудованные лаборатории, мастера для изготовления приборов и бюджет для закупки необходимого. Профессорам полагались квартиры, солидное денежное жалованье, возмещение затрат на домашнее хозяйство. Им разрешалось, наряду с работой в академии, вести частные занятия. Ученые в Петербургской академии были обеспечены наилучшим образом, и это привлекало многих европейских светил.
Иными словами, была большая государственная нужда именно в таком решении вопроса, и это касалось в том числе гуманитарных направлений: истории, лингвистики и ориенталистики.
В историографической литературе вплоть до недавнего времени целиком господствовала остро негативная оценка трудов немецких ученых, приглашенных в Академию наук, и всеми силами утверждалась мысль о том, что они фальсифицировали русскую историю и насаждали в академии «немецкое засилье». В таком виде оценка Байера и Миллера появилась сразу после войны: «Уже в 1947 году в книге С.А. Семенова-Зусера Миллер, вслед за Байером, был изображен как фальсификатор русской истории, который «с гениальной политической прозорливостью» разоблачен М.В. Ломоносовым. От Семенова-Зусера получила начало традиция обвинения ученых во всевозможных грехах без оглядки на их труды и без всякой ссылки на них»[55]. Это была чисто политическая оценка ученых, которая никак не вязалась со многими широко известными фактами. Впоследствии для маскировки этого неприглядного положения была сконструирована теория о том, что немецкие ученые «на самом деле» выполняли политический заказ курляндских временщиков при императорском дворе.
55
Белковец Л.П. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII века. Г.Ф. Миллер и А.Ф. Бюшинг. Томск: Издательство Томского госуниверситета, 1988. С. 31.