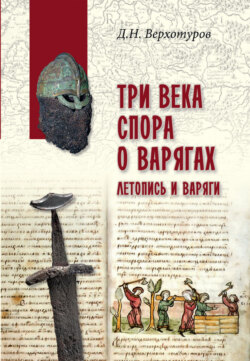Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава третья. Первый спор о варягах
Миллер как первый исследователь русской летописи
ОглавлениеРоль Миллера в создании русской исторической науки очень долго не была оценена по достоинству. Ни один её представитель в России за всё время развития этой дисциплины не подвергался таким долгим и ожесточенным нападкам, как он. Труды ни одного историка столь долго не замалчивались. Сведения о нем рассеяны по разным публикациям, а труды разбросаны по труднодоступным библиотекам и нередко существуют только в прижизненном издании или в архиве. Мы и теперь, спустя 250 лет, не имеем сводной библиографии обширных трудов Миллера, а также его полной научной биографии. Вплоть до середины 90-х годов ХХ века существовала только одна подробная биография Миллера – в труде П.П. Пекарского об истории Академии наук[101]. Вторая подробная биографическая статья о Г.Ф. Миллере вышла в сборнике его сочинений по истории России в 1996 году[102]. Пристальное внимание ему, правда, только в разрезе исторической журналистики, уделил томский исследователь Л.П. Белковец в 1988 году[103]. В силу рано появившейся негативной оценки Миллера как историка его деятельность получила очень скудное освещение.
Пока были живы те люди, которые знали Миллера лично и пользовались результатами его трудов, историку воздавалось должное почтение. Хвалили большие достижения Миллера в деле обработки русских архивов Н.И. Новиков (для издания которого – «Древней Российской Вивлиофики» – Миллер помогал собирать древние документы), князь М.М. Щербатов, историограф Петра Великого И.М. Голиков (который пользовался собранными Миллером материалами). Он долгое время считался как в России, так и в Европе крупнейшим специалистом по истории России. Выпуски его журналов «Sammlung RuЯische Geschichte», «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях», «Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие» были у каждого, кто всерьез интересовался историей России.
Определенная перемена отношения к нему началась с критики некоторых миллеровских тезисов в примечаниях Н.М. Карамзина к своей «Истории государства Российского». Во-первых, грандиозный труд Николая Михайловича заслонил собой труды Миллера, значительная часть которых была издана на немецком языке. Это позволило А.Н. Сахарову в предисловии к переизданию труда Карамзина заявить: «И все же открытие древней России для читателя XIX века оказалось связанным именно с научным творчеством Н.М. Карамзина»[104]. Во-вторых, в своих комментариях Карамзин показал Миллера как не вполне объективного историка: «Не только благоразумные критики – Миллер, Шлецер, – но и сам шведский повествователь Далин, весьма склонный к баснословию, отвергает древнюю Историю Саксонову. Несмотря на то, Миллер в своей Академической речи с важностью повторил сказки сего датчанина о России»[105].
В другом месте Карамзин указал, что Миллер в дискуссии 1749 года уступил давлению Ломоносова и других академиков и изменил свое мнение о том, что варяги были скандинавами[106], и примкнул к мнению Ломоносова: «Наконец, Миллер согласился, что Варяги-Русь могли быть Роксолане, в смысле Географа Равенского, а не древние»[107]. Огромный авторитет Карамзина отодвинул Миллера на второй план в истории развития русской исторической науки и к тому же придал его работам несколько негативный характер.
Однако в 50-х и 60-х годах XIX века к Миллеру сохранялось взвешенное отношение, С.М. Соловьев и П.П. Пекарский написали два неплохих биографических очерка о нем[108]. Очерк Пекарского и теперь остается одним из наиболее полных и объективных.
Постепенно негативная, но все же достаточно взвешенная оценка Карамзина, взятая антинорманистами, разрослась в общую негативную оценку Миллера, а там уже и всех остальных немцев-академиков. После «антинорманистского» года – 1871-го – антинорманисты стали активно проводить мысль о том, что немецкие ученые ничего хорошего для русской науки не сделали. У М.О. Кояловича, выпустившего свой труд в 1882 году[109], есть уже резко негативные оценки Байера, Миллера и Шлецера. Для антинорманистов Миллер становился мишенью как один из основателей теории норманизма. Уже в конце XIX века его стали уличать в неточностях, как, например, сделал Н. Оглоблин, вычитавший, что Миллер пропустил в одном из документов пять с половиной строк, и на основании этого единичного примера сделавший хлесткий вывод: «Очевидно, что искажение входило у Миллера в систему его историографических методов»[110].
Хотя, надо сказать, в то время высказывались и здравые оценки творчества Миллера, например крупным исследователем русской историографии П.Н. Милюковым: «Сопоставляя личность Миллера и плоды его ученой работы, нельзя не найти полнейшее соответствие между тем и другим. За эту бесконечную работу собирания, часто граничившую с механической работой списывания, не мог бы взяться настоящий ученый, вроде Байера»[111]. При этом он поясняет, что в то время немецкие ученые в области истории, как правило, ничем, кроме Античности, не занимались и никакого значения собиранию актов недавней истории не придавали.
Когда советская историческая наука, под влиянием политической обстановки 30-х и 40-х годов, вновь резко повернула к антинорманизму, к тому же очень политизированному, то Миллера стали просто шельмовать. Первым в сугубо негативном тоне высказался о нем М.Н. Тихомиров в 1948 году[112]. Через несколько лет это мнение было повторено в академическом издании «Очерки истории исторической науки в СССР» под редакцией М.Н. Тихомирова. Оно говорит о вкладе Миллера и других историков-иностранцев таким образом: «Деятельность иностранных историков принесла не сколько пользы, сколько вреда для русской историографии, направившая ее по ложному пути неприкрытого подражания иноземной исторической литературы»[113].
Тот же М.Н. Тихомиров стал автором распространенного в советской историографии мнения о том, что норманизм в России появился в качестве политической теории, которая «в сущности, выполняла заказ правительства Бирона… стремилась исторически объяснить и оправдать засилье иноземных фаворитов при дворе Анны Иоанновны». Эта оценка немецких историков, и Миллера в частности, даже несмотря на поправки Л.В. Черепнина, стала господствующей в советской историографии вплоть до конца 80-х годов ХХ века, когда появился труд Л.П. Белковца, в котором работы Миллера оценивались более или менее объективно. В 1996 году Российская академия наук принесла своего рода извинение Миллеру, выпустив в свет в серии «Памятники исторической мысли» собрание его исторических статей.
В отличие от Ломоносова Миллер много и плодотворно трудился как с русскими, так и иностранными источниками. Главная его работа с ними, предшествовавшая спору, состоит в публикации выдержек из Повести временных лет. Миллер, впрочем, переводил текст летописи не дословно, а пересказывал его, но весьма близко к тексту, снабжая необходимыми примечаниями. Пересказ разбит на короткие статьи с датами, обозначенными «А. 860», так же как в летописи. Выдержки начинаются со статьи, обозначенной 860 годом, в которой говорится о дани хазарам и о прибытии варягов из-за моря[114].
Бытует мнение, будто бы Миллер допустил в публикации неправильное имя летописца, назвав летопись «Феодосьевой», по имени игумена Киево-Печерского монастыря. К примеру, В.В. Фомин пишет: «О степени его вхождения в русскую историю и сложный мир летописей свидетельствует тот факт, что Миллер, опубликовав в 1732–1735 годах в «Sammlung RuЯische Geschichte» немецкий перевод извлечений из летописи с 860 по 1175 год, приписал ее «игумену Феодосию», что вслед за ним повторил Байер в статье «О варягах»[115].
Однако, как и во многих других вопросах спора о варягах, злонамеренной ошибки Миллера здесь нет. Более того, нет даже и самой ошибки, потому что в первой статье, посвященной летописи, он вставил в текст правильное русское название: «Книга летописец повесть времянных лет черноризца Феодосьева монастыря Печерского, от куда есь пошла Русская земля и кто в ней почал первые княжити». Лишь затем шел немецкий перевод: «…Oder Historie nach Zeitrechnung des Munchen Theodosii im Petscherische Kloster zu Kiow, von dem Ursprunge des Rußische Reichs, und dener ьber daßelbe regierenden Fürsten»[116].
Немецкий перевод названия летописи и вправду дает понять, что речь идет о монахе Феодосии в Печерском монастыре Киева. Слово Theodosii в тексте, напечатанном готическим шрифтом, было написано на латыни и напечатано латинским шрифтом и стоит в единственном числе родительного падежа второго склонения[117]. Согласно правилам латинского языка это согласованное определение, слово Theodosii прилагательное, и оно определяет слово des Munchen. В заголовке статьи, где упомянут «игумен» (Abt), по всей видимости, отражено предположение Миллера о том, что сочинение могло принадлежать игумену монастыря, но слово Theodosii также напечатано латиницей, в отличие от готического немецкого шрифта, и также поставлено в родительном падеже второго склонения латинского языка, то есть является согласованным определением.
В дальнейших публикациях Миллер называл Повесть временных лет совсем не сочинением «игумена Феодосия», как ему приписывается, а «Хроникой Феодосийской Киевской», на манер «Бертинских анналов». Например, в третьем выпуске журнала статья с продолжением публикации отрывков называлась так: «Fortsetzung des Auszugs RuЯische Geschichte nach Anleitung des Chronici Theodosiani Kiowensis». И здесь три последних слова были напечатаны латиницей и поставлены в родительном падеже по правилам латинского языка. Тут ошибки и не было, поскольку хорошо известно, что авторство Нестора в летописи не указано. Позднее, в работе «О происхождении имени и народа российского», Миллер все же сказал об ошибке, приписав ее переводчику, и назвал Нестора автором летописи.
Миллер тем не менее полагал, что автор у летописи вовсе не один. Он пишет, что игумен Феодосий умер в 1074 году, а события текста летописи доведены до 1206 года: «Что внесено после этого времени до 1206 года, автор этого неизвестен»[118]. Собственно, имя Нестора как автора Повести временных лет известно из более поздних источников, в частности послания монаха того же монастыря Поликарпа к архимандриту Акиндину, составленного в XIII веке, а не из самой летописи.
Исследователь первым в русской историографии понял, что летопись составлена разными авторами и слагалась из разных источников. Миллер в своем предисловии к изданию выдержек из летописи дает феноменальное указание: «Столь много я вложил в указание, что более древних русских хронографов, как этот, сегодня уже не осталось. Но вытекает из этого труда с полной ясностью, что должен был быть перед ним другой автор, который особенно излагал время прибытия варягов в Россию»[119]. Этим он на 170 лет предвосхитил выводы А.А. Шахматова. Если бы не спор о варягах, который, по существу, отстранил Миллера от занятий древней русской историей, то вполне вероятно, что критическое изучение русских летописей могло бы начаться гораздо раньше, чем началось в действительности.
Помимо публикации выдержек из русской летописи Миллер был еще первопроходцем привлечения скандинавских источников для изучения истории Руси. Во втором выпуске журнала он привел краткую выдержку из хроники Снорри Стурлуссона и указал при этом: «Россия выводится у Снорро Стурлуссона часто именем Гардарики, часто Хольмгардом и имела ко времени норвежского короля Олава Трюгвассона короля, который звался Вальдемаром»[120]. Снизу Миллер дал сноску, что Вальдемар по-русски – это Владимир, установив таким образом тождество князя из летописи и скандинавского источника. Первые попытки после Миллера ввести в круг источников по истории Руси скандинавские саги были предприняты более чем сто лет спустя.
Как видим, Миллер был весьма и весьма талантливым исследователем письменных источников, сделавшим первые шаги в их критическом изучении и уже понявшим, что авторов у русской летописи было несколько. Заметим, это был 1732 год. В это время Ломоносов проходил класс риторики в Славяно-греко-латинской академии.
Так что по части знания письменных источников по русской истории Миллер был намного выше, чем Ломоносов. По справедливости, Миллера нужно признать основателем критического исследования русских летописей в русской историографии.
101
Пекарский П.П. История Императорской академии наук в Петербурге. Т. 1. СПб., 1870. С. 308–406.
102
Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М.: Наука, 1996. С. 375–426.
103
Белковец Л.П. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII века. Г.Ф. Миллер и А.Ф. Бюшинг. Томск: Издательство Томского госуниверситета, 1988.
104
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 1. С. 6.
105
Карамзин Н.М. История государства Российского. Примеч. ко 2-й главе. С. 208.
106
Карамзин пишет: «…вместе с Байером признав Варягов Скандинавами…» Однако изучение как диссертации Миллера, так и других его работ на ту же тему показывает, что историк не был так категоричен и указывал, что в составе варягов могли быть люди разного происхождения и общественного состояния.
107
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 1. примеч. к 3-й главе. С. 217.
108
Соловьев С.М. Писатели русской истории // Сочинения. Кн. XVI. М., 1995.; Соловьев С.М. Г.Ф. Мюллер // Современник. 1854. № 10; Пекарский П.П. История Императорской академии наук…
109
Переиздание – Коялович М.О. История русского самосознания…
110
Оглоблин Н. К вопросу об историографе Г.Ф. Миллере // Библиограф. 1889. № 8–9. С. 166.
111
Милюков П.Н. Очерки истории. С. 87.
112
Тихомиров М.Н. Русская историография XVIII века // Вопросы истории. 1948. № 2.
113
Очерки истории исторической науки. С. 190.
114
Nachricht von einem alten Maniskript der Rußischer Geschichte des Abres Theodofil von Kiow // Sammlung Rußische Geschichte. Erstes Stück. St.Peterburg, 1732. S. 9.
115
Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь… С. 95.
116
Nachricht von einem alten Maniskript… S. 21.
117
Родительный падеж латинского языка употребляется для несогласованного определения и косвенного дополнения. Также в родительный падеж часто ставят зависимые существительные и согласованные определения, в последнем случае прилагательное помещают после определяемого слова. – Козлова Г.Г. Самоучитель латинского языка. Учебник. М.: Наука-Флинта, 2003. С. 23.
118
Nachricht von einem alten Maniskript. S. 3.
119
Nachricht von einem alten Maniskript. S. 3.
120
Auszug Rußischer Geschichte des X. und XI. Jahrhunders. Aus des Snorronis Historie der Nordlichen Kцnige // Sammlung RuЯische Geschichte. Zweites Stück. Peterburg. 1733, S. 114.