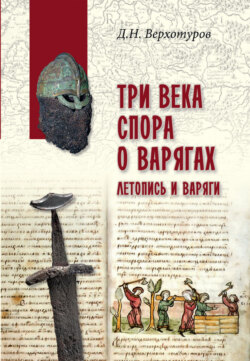Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава первая. Происхождение русского национального нарратива
Почему отрицалось влияние летописей. на исторический нарратив?
ОглавлениеОбщепонятный язык, восходящий к весьма глубокой древности, и обширный летописный материал с самого начала были главной опорой русского национального нарратива. Более того, этот материал настолько хорошо ложился в русло формирующегося исторического нарратива, что его создателям не пришлось прибегать к сочинению фальшивых летописей, как в Чехии. Это, конечно, не означает, что таких попыток не делалось, и наиболее известный тому пример – фабрикация т. н. «Велесовой книги». Эта подложная летопись была сфабрикована в попытке резко удревнить русскую историю и заодно дистанцироваться от православия, сделав упор на язычество. Но попытка оказалась неудачной, и «Велесова книга» не нашла широкого признания, не говоря уже о том, что была разоблачена специалистами по древнерусской литературе. Национальный нарратив оказался слишком ладно скроен и крепко пошит из вполне объективных исторических свидетельств, чтобы в него получилось бы втиснуть подобные подложные документы.
Но все же историографическое значение летописей для русского национального самосознания сильно недооценивалось, особенно в советской историографии. Во-первых, исследователи не опирались на концепцию нации как воображаемого сообщества, скрепленного историческим нарративом (по чисто объективным причинам; эта концепция появилась только в 1980-х годах, а понимание огромного значения исторического нарратива для развития нации возникло и того позже), что не позволяло увидеть в летописях и тесно связанных с ними исторических сочинениях XVII и начала XVIII века средство развития и укрепления национального самосознания. Во-вторых, историки рассматривали летописи в первую очередь как исторический источник. Летопись как источник и исторические работы (в том числе служащие задачам укрепления национального самосознания) разводились и дистанцировались между собой. Летопись приобретала характер абсолютно объективного источника, к сведениям из которого принято относиться с доверием. Но если полагать так, то совершенно невозможно понять, каким это образом М.В. Ломоносов оформил, да еще таким лаконичным образом, свою позицию.
Мои изыскания по этому вопросу, сделанные еще на ранних стадиях работы над книгой, вполне определенно показали, что дистанция между летописями и исторической литературой гораздо короче, чем принято было считать. Принято же было считать, что летописные традиции прервались в XVI веке, как это событие датировал Д.С. Лихачев. Он обосновал это так: «Летописание, которое в предшествовавшие века было не только историей Русского государства, но и государственной историей, велось государственной заботой – отныне становилось по преимуществу частным делом отдельных авторов»[14]. Это оказалось главной причиной, по которой Лихачев не признавал исторические сочинения XVII века, носящие явно летописный характер, летописями. По единственной причине – что они составлены не под надзором государства и потому летописями быть не могут! Хорошо, если в XVII веке уже не было летописей, то что было? Почтенный академик на эту тему говорит так: появился новый жанр исторической литературы, более развитый по сравнению с летописанием: «На смену летописания в XVII веке прочно утвердились исторические новеллы, хронографы и степенные книги с продолжениями, охватывающими события последних лет»[15]. И в такой капитальном труде, как «Очерки по истории исторической науки в СССР» под редакцией М.Н. Тихомирова, об этом говорится категорично: «Новые приемы русской историографии особенно проявились во второй половине XVII века, когда возникают исторические произведения, только внешне сохраняющие вид летописи, но по существу совершенно отходящие от старой летописной традиции»[16]. По мнению М.Н. Тихомирова, сочинения XVII века нельзя назвать летописями в силу новых требований к историческим работам, эти изменения заключались вот в чем:
1. Расширение круга авторов.
2. Отход от стиля летописи.
3. Значительной расширение исторической тематики.
4. Привлечение новых материалов.
5. Усиление критики исторических источников[17].
Эта точка зрения двух известных историков прямо вытекает из их представления о том, что летопись – это исторический источник. Лихачев, вообще проявлявший большую склонность к опрокидыванию современных реалий в древность, определял летописание как собрание документов и исторических фактов, а саму летопись характеризовал как некоторый упорядоченный архив, будто бы специально предназначенный для будущего историка. Впрочем, более точно: «Летопись на протяжении IX–XV веков – это в основном документ, дневник, «погодник» исторических фактов, систематизированное собрание исторических материалов, своеобразный архив»[18].
Собственно, из этого представления Лихачева о летописании выросло его убеждение в том, что летопись обязательно должна иметь государственное значение. Но ведь этим дело совершенно не исчерпывается. Летописание было не только государственным делом, но и частным. Существовали, во-первых, летописи других центров Руси: псковские, новгородские, тверские, киевские, и многие другие. Во-вторых, были летописи монастырские, а в XVII веке, который кажется Лихачеву эпохой прекращения летописания, появились летописи родовые (Строгановская летопись) и даже летописи одного автора (Ремезовская и Есиповская летописи). Кроме того, все это время продолжалась переработка и продолжение старых летописей и исторических книг, что выразилось в создании целого ряда исторических сочинений.
Нельзя не сказать, что точка зрения Лихачева не лишена своей логичности и последовательности. Если понимать летописание столь узко, как понимал его он, то, действительно, все, что не входит за эти узкие рамки, нужно исключать из летописной традиции.
Поскольку Лихачев слишком узко понимал летописание, то он и не увидел, что жанр развивался в это время. Из кратких записей по годам, восходящим к заметкам на пасхальных таблицах и, как показали недавние открытия, к заметкам на стенах церкви, летописание превратилось в развитый жанр, где погодные записи делались уже в виде новелл, обладающих своим сюжетом. Первое произведение в московской литературе такого рода появилось в 1512 году под названием «Хронограф», и посвящено оно было событиям мировой истории. Лихачев считает, что жанр летописания с этого момента приходит в упадок. Но, на мой взгляд, есть основание считать, что жанр летописи как раз вышел в зенит своего развития и в XVI–XVII веках оказал огромное влияние на развитие русской литературы. Тут еще стоит указать, что в отношении первоначальной рукописи В.Н. Татищева, охватывающей историю Руси от ее зарождения до Батыева нашествия, переданной в 1739 году в Академию наук, существует мнение, что это на самом деле летописный свод Татищева. Д.А. Мачинский пишет: «Таким образом, второй вариант дотатарской истории Руси представляет именно «Историю» Татищева, предназначенную для его современников и потомков. А в 1964 году вышел базовый «Свод Татищева», основанный только на летописях и вобравший в себя сведения ряда манускриптов, ценнейшие из которых позднее были утрачены. Этот свод В.Н. Татищев не считал нужным издавать и отдал его на хранение в Академию наук»[19]. Составление столь позднего свода определенно подрывает точку зрения Д.С. Лихачева и М.Н. Тихомирова. Да и сам Лихачев неосторожно заявил: «Летописание не перестало быть ведущим жанром русской литературы даже после того, как оно фактически перестало существовать в Москве»[20]. Этим он дезавуировал всю свою концепцию об отмирании летописания.
Противоречивость взглядов на летописание никак в работах этих историков не объяснялась, а оппонентами практически не критиковалась (хотя некоторые возражения этому имели место). Возникало полное впечатление, что искусственно, с большими натяжками, создавался разрыв на 100–150 лет между «окончанием летописания» и первыми научными историческими работами. Возникает вопрос: зачем столь авторитетным авторам понадобилось выдвигать столь шаткую концепцию, к тому же легко побиваемую фактами?
Но если рассматривать это странное поведение академических историков с точки зрения развития русского национального нарратива, то объяснение становится довольно простым. Во-первых, разумеется, преемственность между поздними летописями, историческими сочинениями XVII–XVIII веков и современной исторической литературой по части славянских доблестей вполне себе имеет место, поскольку все эти разновидности исторической литературы стоят на одной и той же источниковой базе классических древнерусских летописей.
Во-вторых, определенная часть исторических сочинений XIX–XX веков, составленная по всем правилам исторической науки и оснащенная обширной библиографией, явно ставит перед собой задачи укрепления и развития русского национального нарратива. В особенности это относится к обобщающим трудам, доказывающим исконность, древность и славность Русского государства в тех или иных аспектах. В отношении трудов этих нельзя отрицать их научной ценности, поскольку в них, как правило, нарративные и научные моменты тесно переплетаются.
На мой взгляд, целесообразно ввести новое понятие «корпус русского исторического нарратива», в который отнести обобщающие труды, обосновывающие основные постулаты русской национальной истории, такие как автохтонное происхождение русского народа от автохтонных же славян, самобытное зарождение, независимость и славность Русского государства. Это обоснование делается как литературными, так и научными средствами. Эталонным образцом трудов этого корпуса является «История государства Российского» Н.М. Карамзина, ставшего на десятилетия примером для подражания. Принадлежность исторического сочинения к этому корпусу не является негативной его характеристикой, поскольку, как уже сказано выше, без них русское национальное самосознание и национальная идея не смогли бы сформироваться. Они определенно играли важную роль в жизни государства и общества.
При этом надо помнить, что один и тот же исследователь мог сочинять как работы «идеологического» содержания, так и чисто научные работы (как правило, узкоотраслевые статьи и монографии). Эти стороны творчества были тесно связаны между собой и влияли друг на друга.
В-третьих, корпус русского исторического нарратива включает в себя ряд сочинений, составленных и опубликованных еще до возникновения в России исторической науки, тесно связанных с летописанием и во многом продолжающих летописные традиции, посвященных той же самой задаче составления истории древнего и самобытного Русского государства и живописания доблести славян. Образцом такого рода «донаучных» сочинений является киевский «Синопсис», которому будет посвящено более пристальное внимание, ибо он сыграл большую роль в споре о варягах.
Корпус отчетливо разделяется на две части, первая из которых сформировалась в XVII–XVIII веках, а вторая часть сложилась в основном в XIX–XX веках. Разница между ними велика, поскольку вторая часть представлена работами, в которых здание нарратива возводится на научном базисе, с применением всего арсенала исторической науки. Переход от следования летописным традициям к научности произошел после первой дискуссии о варягах между М.В. Ломоносовым и Г.Ф. Миллером, а также после появления трудов А.Л. Шлецера, в особенности его «Нестора». Немецкие историки, вооруженные уже довольно развитым в немецкой исторической науке арсеналом критики источников, без особого труда свалили киевский «Синопсис», заставив творцов русского национального нарратива всерьез заняться научным базисом.
14
Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М. –Л.: АН СССР, 1947. С. 375.
15
Лихачев Д.С. Русские летописи… С. 376.
16
Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 1. М.: АН СССР, 1955. С. 94.
17
Цитируется по: Пештич С.Л. Русская историография XVIII века. Часть 1. Л.: ЛГУ, 1961. С. 39.
18
Лихачев Д.С. Русские летописи. С. 336.
19
Мачинский Д.А. Вновь открытие источники по истории Руси IX–XII вв. // Ладога. Первая столица Руси. 1250 лет непрерывной жизни. Седьмые чтения Анны Мачинской. Старая Ладога, 21–23 декабря 2002 г. Сборник статей. СПб.: Нестор-История; СПб. ИИ РАН, 2003. С. 157.
20
Лихачев Д.С. Русские летописи. С. 377.