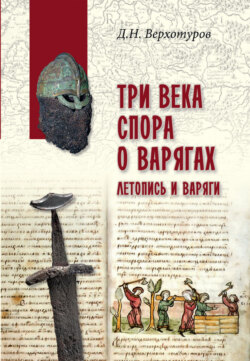Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава первая. Происхождение русского национального нарратива
Летописание до Петра и при Петре
ОглавлениеЧтобы не оставалось недосказанности, нужно эту гипотезу об отмирании летописания окончательно свалить. Не так трудно собрать сведения о том, что оно вовсе не отмирало в XVI веке. Крупный знаток русской летописной традиции Арсений Николаевич Насонов писал в 1969 году: «Однако новые данные позволяют внести существенную поправку в наши представления. Не только в XVII веке, но и в начале XVIII века, в петровское время, были попытки составления официальных летописных сводов»[21]. Осторожный тон и ссылка на книгу Лихачева, цитированную выше, могут обмануть читателя и породить у него представление, что Насонов только слегка корректировал расхожие представления. Мол, появились новые данные, и потому будем считать так. Однако в дальнейшем у него есть куда более резкое высказывание, прямо заточенное против Д.С. Лихачева: «Мнение о том, что «летописи в глазах Петра не имели официального значения», теперь оказываются более чем сомнительными»[22].
Итак, летописи существовали наряду с новыми формами, пробовавшимися сочинителями. О них С.Л. Пештич пишет: «Нельзя не отметить, что у историков или историков-летописцев XVII века зачастую научность уживалась с религиозным мировоззрением, теологическим и телеологическим представлением об истории»[23]. Иными словами, авторы этих работ не порывали с одной из главных особенностей летописания – религиозным подходом. Это прекрасно видно на примере сочинения С.У. Ремезова об истории Сибири. Вот оценка В.Г. Мирзоева ремезовского сочинения: «У Ремезова, писавшего примерно через 100 лет после похода казаков в Сибирь, Ермак получает ореол святости и превращается в житийный персонаж… Ремезов сравнивает его с библейским Самсоном, изображает его действующим в молитвах и постах, подробнейшим образом описывает чудеса, будто бы свершавшиеся над его телом»[24]. По-моему, очень яркая характеристика труда писателя XVII века.
Не порывали они и с летописным материалом. Исторические сочинения этого времени представляют собой своего рода краткие конспекты летописных сводов и обширных летописей с некоторыми комментариями. И есть многочисленные сведения о том, что в это время на задачи исторического сочинения смотрели именно таким образом.
В 1630 году завершается составление «Нового летописца». Это сочинение, повествующее о Смутном времени и охватывающее правление Ивана Грозного, Годунова, самозванцев, избрание Романовых и правление Михаила Федоровича. «Летописец» проповедовал идеи божественности, наследственности и всенародном признании царской власти. Л.В. Черепнин характеризует основные идеи этого сочинения таким образом: «Царская власть утверждается Богом, права династии на престол освящаются божественным промыслом… Божественным предопределением выдвигается на престол определенная царская линия, в пределах которой власть переходит по наследству… Бог передает власть определенной фамилии, но это божественное предопределение находит свое выражение в голосе народа. Народ открытым высказыванием своей воли выявляет волю Бога»[25].
В 1650 году в Троице-Сергиевом монастыре был составлен летописец «От летописца вкратце о Велиция Росси и о благочестивых государях тоя земли, откуда корень их изыде». Как видно, здесь задача сокращения обширной летописи до удобочитаемого объема вынесена в самое заглавие труда. В этом сочинении изложены основные события истории России от начала государства под углом объяснения достигнутого величия страны.
В 1652 году при дворе патриарха Никона был составлен еще один летописный свод. Его значение было неприкрыто политическим, поскольку он завершался рассказом о перенесении в Москву из Соловков мощей митрополита Филиппа, который был убит при Иване Грозном, и поставлением на патриаршество самого Никона[26].
Император Петр Великий
В 1657 году был создан Записной приказ, в задачу которого входило составление нового исторического труда специального назначения и по заказу царского двора. Приказ должен был взять за основу Степенную книгу, завершенную в 1567 году, и довести ее до царствования Алексея Михайловича[27]. Этот факт в корне подрывает тезис Д.С. Лихачева, ибо династия продолжала летописание еще и в XVII веке. Этот приказ просуществовал два года и был ликвидирован в 1659 году. По всей видимости, это было связано с тем, что в 1658 году при дворе патриарха Никона началась переработка «Нового летописца», который получил новое название «Летопись о многих мятежах». В 60-х годах XVII века в Новгороде был составлен еще один свод, на основе протографа 1592 года.
Не оставлялись попытки написать и всеобщую историю России. В 1669 году дьяк Разрядного приказа Федор Грибоедов завершил свой труд под названием «История, сиречь повесть или сказание вкратце о благочестно державствующих и свято поживших боговенчанных царях и великих князьях их в российстей земле богоугодно державствующих, начень от святаго и равноапостольнаго князя Владимира Святого…». Дьяк писал по царскому заказу и выстроил свое повествование как жизнеописание сменявших друг друга царей. М.О. Коялович пишет об этом труде: «Его история одно напыщенное восхваление с пропущением всего, что не подходит под эту задачу»[28]. Рукопись была взята в царский дворец, а автор ее получил щедрое вознаграждение.
Другое очень известное историческое или летописное сочинение XVII века – «Синопсис» – родилось прямо в ходе переработки летописи. В 1670 году в Киеве шла переработка Ипатьевской летописи и составление на ее основе летописного свода, известного как Густынская летопись. Игумен киевского Михайловского монастыря Феодосий Сафонович в 1672 году, пользуясь ей, создал свое сочинение «Хроники з летописцев стародавних, з святого Нестора печерского и Никона, также з хроник польских о Руси, отколе Русь началась и о первых князех русских и о им дальше наступающих князех и об их делах».
Это был достаточно краткий конспект обширной Густынской летописи. Изложение было доведено, как и в летописи, до XIII века. Из этой хроники, которая в 1673 году была переработана в Киево-Печерском монастыре, родился «Синопсис», впервые выпущенный в свет в 1674 году с благословения архимандрита Киево-Печерского монастыря Иннокентия Гизеля. Это сочинение под названием «Синопсис, или Краткое собрание от разных летописцев о начале Славено-российского народа и первоначальных князей богоспасаемого града Киева, и о житии святого благоверного Великого князя Киевского и Всея Руси первейшего самодержца Владимира и о наследниках благочестивого государя нашего царя и великого князя Алексея Михайловича Всея Великия, Малыя и Белыя России самодержца» переиздавалось 30 раз, вплоть до 1861 года[29].
В 1686 году в Посольском приказе по распоряжению и под наблюдением князя В.В. Голицына был составлен новый летописный свод, который должен был прославить достижение «вечного мира» с Польшей, заключенного в 1686 году, и по которому Польша уступала Левобережную Украину с 85 городами[30].
Хотя Петр I считается большим преобразователем, безжалостно ломавшим старые традиции, тем не менее и он отдал дань уважения летописной традиции. Самодержец был сильно увлечен увековечиванием своих достижений. Он лично написал предисловие к «Морскому уставу», в котором повелел считать начало русского флота с собственного ботика на Плещеевом озере. Еще Петра занимало увековечивание своих подвигов в Северной войне. Лучшие перья страны стали трудиться над этой книгой, причем Петр сам многое просматривал и правил. Лучше всего вышло у П.П. Шафирова и Феофана Прокоповича. Написанное Шафировым «Рассуждение о причинах свейской войны», оконченное в 1720 году, понравилось Петру до такой степени, что вышло в свет колоссальным для того времени тиражом 20 тысяч экземпляров[31].
В изучении всей остальной истории России Петр шел давно проторенным летописным путем и за все время своего царствования много раз пытался составить новый летописный свод.
В 1708 году справщик Синодальной типографии Федор Поликарпов получил от судьи Монастырского приказа И.А. Мусина-Пушкина указание о составлении труда по истории. В письме к Поликарпову Мусин-Пушкин указывал, что царь хочет видеть труд по истории Российского государства со времени Ивана III. Первоначально Поликарпов составил труд из двух частей: хронографа, который излагал события от Сотворения мира и до времени Ивана III, и летопись, которая подробно излагала события с XVI века до 1711 года. Сведения из этого труда позволяют твердо быть уверенным в том, что в начале XVIII века летописные заметки еще продолжались вестись, поскольку в труде имеются многочисленные и подробные описания пожаров с точными датами.
Царю этот труд не понравился, и Мусин-Пушкин в письме Поликарпову написал: «Понеже его царское величество желает видеть Российского государства историю, и о сем перво трудиться надобно, а не о начале света и других государств, понеже о сем много написано»[32]. Поликарпов составил вторую редакцию своего летописного сочинения под названием «История Российская», которая начиналась с исследования под заглавием «О словенском народе…». Далее кратко, до Ивана Васильевича, излагались события, произошедшие при разных князьях, а вот со времени Ивана III начинается подробное изложение.
Но и этот труд также оказался не по душе Петру, и 2 января 1716 года Мусин-Пушкин писал Поликарпову, что его труд снова отвергнут. Есть сведения о том, что летописное сочинение перерабатывалось еще раз и было представлено в 1722 году[33]. После этого, как пишет М.О. Коялович, «Петр затем сузил задачу – он желал иметь краткую сводную летопись»[34].
Если бы не своенравие Петра, который отклонил все три редакции труда Поликарпова, то быть бы ему первым русским историком. Справедливости ради стоит сказать, что Федор Поликарпов имеет больше прав на это звание, чем Татищев, начавший работать тогда, когда труд Поликарпова был уже завершен.
Видно, задача составления исторического труда так сильно владела Петром, что о ней знали многие его приближенные и многие за это брались. Самое удачное историческое сочинение петровского времени также появилось на основе «Синопсиса». В 1715 году секретарь русского посла в Швеции князя Хилкова, задержанного на время войны, Манкиев составил «Ядро российской истории». М.О. Коялович дает нам ключ к пониманию ситуации: «В том томительном уединении он занялся исправлением и дополнением Киевского «Синопсиса»: Манкиев старался снять наслоения в «Синопсисе» польских известий и заменить их русскими летописными»[35]. Манкиев свое сочинение старался представить царю, но потерпел неудачу. «Ядро русской истории» вышло в свет только в 1770 году академическим изданием.
Сам Петр также пользовался летописью, список которой был в его кабинете, бывшей среди русских книжников того времени непререкаемым авторитетом. Ее главным недостатком было то, что события в ней доводились до XIII века, тогда как Петру нужны были сведения и о более поздних временах. Потому он так настойчиво требовал от своих приближенных составления нового летописца.
В 1722 году Петр дает указание обер-прокурору Синода Григорию Скорнякову-Писареву составить летописец. И даже выпускает указ о пересылке в Синод всех древних рукописей из всех монастырей[36]. Однако же и из этого сочинения также ничего не получилось. Здесь необходимо отметить специально этот факт. 1722 год – время, совсем близкое к основанию Академии наук и приглашению большой группы ученых из Европы. Но до их появления в России историческая наука и критические исследования не только не появились, но в деле написания истории России безраздельно господствовал летописный подход и широко ходили разнообразные конспекты летописей и летописные сочинения.
Наконец, в самом конце жизни, очевидно отчаявшись получить от русских писателей удовлетворительный труд по истории, Петр повелевает создать в Академии наук, учрежденной 28 января 1724 года, в третьем ее отделении, куда входили гуманитарные науки, кафедру новой и древней истории. На нее предполагалось пригласить иностранных ученых, которые бы занялись изучением русской истории. И тем самым закладывает фундамент для возникновения в России исследовательской исторической науки. Хотя, как указывалось выше, составление летописных сводов на этом не прекратилось. Влияние летописания в XVII веке на русскую литературу было настолько велико и всеобъемлюще, что даже Петр, прославившийся своим неуемным реформаторством, вмешивавшийся почти во все дела своей империи, практически всю жизнь шел в русле летописного подхода к истории и требовал от своих подданых летописного свода. Если уж такой реформатор шел в русле летописной традиции, то что же говорить о других историках XVIII века!
Итак, концепция Д.С. Лихачева об отмирании летописания в XVI веке просто не соответствует действительности, поскольку, как видно из приведенного обзора, летописи составлялись и в XVII, и в XVIII веках. Но этот вывод важен не сколько для того, чтобы торжествовать над Лихачевым, сколько для того, чтобы ясно понимать, что аргументы Ломоносова в первом споре о варягах стояли на фундаменте летописной традиции.
21
Насонов А.Н. История русского летописания XI – начала XVIII века. Очерки и исследования. М.: Наука, 1969. С. 478.
22
Насонов А.Н. История русского летописания С. 490.
23
Пештич С.Л. Русская историография XVIII века. Часть 1. Л.: ЛГУ, 1961. С. 44.
24
Мирзоев В.Г. Историография Сибири (домарксистский период). М.: Мысль, 1970. С. 35.
25
Черепнин Л.В. Русская историография до XIX века. Курс лекций. М.: МГУ, 1957. С. 124.
26
Насонов А.Н. История русского летописания. С. 483–486.
27
Черепнин Л.В. Русская историография. С. 128–129.
28
Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. Минск: Лучи Софии, 1997. С. 126–127.
29
Коялович М.О. История русского самосознания. С. 130; Черепнин Л.В. Русская историография… С. 132.
30
Черепнин Л.В. Русская историография. С. 131.
31
Шапиро А.А. Русская историография с древнейших времен до 1917 года. М.: Россия – Культура, 1993. С. 162.
32
Насонов А.Н. История русского летописания. С. 492.
33
Насонов А.Н. История русского летописания. С. 495.
34
Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам… С. 134.
35
Коялович М.О. История русского самосознания. С. 155.
36
Этот указ сыграл потом свою роль в перипетиях вокруг источников по русской истории во времена пребывания Августа Людвига Шлецера в России.