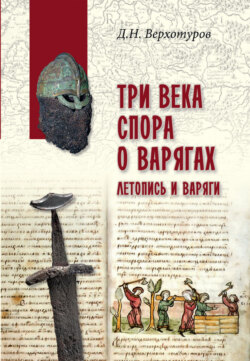Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава третья. Первый спор о варягах
Происхождение норманизма
ОглавлениеГлавный недостаток с политической точки зрения работы Миллера состоял в том, что она совершенно не вписывалась в рамки русского исторического нарратива, уже оформленного киевским «Синопсисом», и не давала никаких аргументов в пользу древности, исконности и славности славян. Напротив даже, Миллер отрицал автохтонность славян в России и показывал их пришельцами и завоевателями. К славе Миллер тоже ничего не добавлял, поскольку в его работе главными деятелями истории оказывались гунны и скандинавы, долго оспаривавшие между собой Прибалтику и Русь. Победа осталась за скандинавами, а славяне просто ассимилировали победителей, за счет своего превосходства в числе и за счет того, что богослужебный язык был славянский, стало быть, и скандинавам, жившим на Руси, его приходилось осваивать, чтобы ходить на церковные службы.
В общем, Миллер с задачей придворного историографа явно не справился и ничего к русскому историческому нарративу не добавил. Он не только не создал древней и славной истории славян, которая от него требовалась в составлении торжественной речи, но и сильно пошатнул своей научной критикой источников и сочинений ее основы, изложенные в киевском «Синопсисе».
Киевский «Синопсис» он критиковал несколько раз. Поставив ссылку на это сочинение, Миллер отвергает мнение о названии Москвы от Мосхов: «…только они всеконечно своем мнении ошиблись, ибо одних имен согласие без других подлиннейших свидетельств, к доказательству о происхождении народов никак не довольно… В России Мосхов и следу нет, да и имя Москва прежде создания города никогда в славе не было»[150]. Так же отвергал Миллер мнение киевского «Синопсиса» о происхождении русов от роксалан: «Но к доказательству происхождения России от Роксолан, не довольно одно имен сходство, не довольно и того, что в первые после Рождества Христова веках Роксоланский народ в Российских жил пределах; надлежит паче то показать, как Роксоланское имя в Российское переменилось»[151]. Но самый острый выпад в адрес «Синопсиса» был у Миллера в части, повествующей о происхождении варягов: «Причисление Варягов к Славянам по моему мнению, одним словом, опровергнуто быть может. В летописи Киевской и во всех других достоверных Российских историях не писано ничего о роде Варягов. Откуда же сочинитель Синопсиса взял свои о том известия? Он догадками домышлялся, приписывая без оснований предкам язык, которым ныне говорят потомки»[152]. В этом месте Миллер дал совершенно четкую характеристику этому сочинению как недостоверному и основанному на домыслах.
Вообще, трудно сказать, почему Миллер, к моменту составления своей речи уже много лет состоявший на русской службе и даже перешедший в русское подданство, написал именно такую работу. Конкретных сведений, показывающих мотивы выбора такого критического направления работы, по всей видимости, не осталось. Можно лишь предположить, что Миллер считал, что от него требуется создание качественной исторической работы, которая бы полностью соответствовала принципам распространенной в европейских университетах критической школы и потому могла быть принятой и высоко оцененной европейскими, прежде всего немецкими, историками. Думал ли он о политической подоплеке своей работы, определенно сказать нельзя.
Его оппоненты, и в первую очередь Ломоносов, зашли именно с политической стороны, стараясь показать, что Миллер стремился умалить славу Российского государства и показать ее страной, завоеванной скандинавами. Ломоносов писал в своих замечаниях на работу Миллера: «Правда, что господин Миллер говорит: «Прадеды ваши от славных дел назывались славянами», по сему во всей своей диссертации противное показать старается, что не всякой почти страны русских бьют, грабят благополучно, скандинавы побеждают, разоряют, огнем и мечом истребляют, гунны Кия берут с собой на войну в неволю»[153].
Ломоносов во втором репорте на диссертацию Миллера от 23 октября 1749 года также писал: «Полагает господин Миллер, что варяги, из которых был Рурик с братьями, не были колена и языка словенского, как о том автор Синопсиса Киевского объявляет, но хочет доказать, что они были скандинавы, то есть шведы»[154]. Хотя из работы Миллера нигде не следовало, что варяги были именно шведами, тем не менее это было самое сильное обвинение в адрес Миллера, поскольку противоречия между Россией и Швецией были еще живы и сильно, недавно закончилась русско-шведская война за пересмотр Ништадтского мира, бывшая для шведов неудачной. Это утверждение Ломоносова звучало как обвинение в том, что Миллер работает в интересах Швеции и обосновывает шведские политические претензии к России. Это мнение, видимо, разделял не только Ломоносов, но и другие академики, а также, видимо, и президент Академии наук, поскольку Ломоносов в своем первом репорте от 16 сентября 1749 года довольно откровенно пишет о мотивах рецензирования: «Указом ея величества из Канцелярии Академии Наук велено сочиненную господином профессором Миллером речь о происхождении имен и народа российского мне рассмотреть, нет ли в ней чего России предосудительного…»[155] И в выводе второго репорта о диссертации Миллера Ломоносов еще раз подчеркнул эти чисто политические подозрения: «Присем отдаю на рассуждение знающим политику, не предосудительно ли славе российского народа будет, ежели его происхождение и имя положить столь поздно, а откинуть старинное, в чем другие народы себе чести и славы ищут. При том также искуснейшим на рассуждение отдаю, что ежели положить, что Рурик и его потомки, владевшие Россией, были шведского рода, то не будут ли из этого выводить какого опасного следствия»[156].
Итак, подозрение в том, что Миллер обосновывает шведские политические претензии к России было первым основанием для разбора его работы. Вторым основанием послужило стремление Ломоносова защитить от критики киевский «Синопсис» и идею древнего происхождения славян.
Еще в первом репорте от 16 сентября 1749 года он писал: «Что славенский народ был в нынешних российских пределах еще прежде Рождества Христова, то неоспоримо доказать можно», а также: «Варягов не почитает господин Миллер за народ славенский, однако, что они происходили от роксалан, народа славенского, и прошли с готфами, славянами ж, от Черного моря к берегам Балтийским… сие все из самой сей диссертации заключить, а из других оснований весьма довольно доказать можно»[157]. Ломоносов утверждал, что перемена имени роксолане на россияне весьма невелика, и подчеркивал: «И Христофор Целларий примечает, что сие слово может быть составлено из двух – россы и аланы, о чем и Киевского Синопсиса автор упоминает, из чего видно, что был в древние времена между реками Днепром и Доном народ, называемый россы»[158]. На требование Миллера показать, как славяне переместились к северу, Ломоносов отвечал: «…сие требование господина Миллера излишно, и к показанию роксалан в севере близ славян новгородских не надобно их приводит от полудни: ибо ясно доказать можно, что Роксаланская земля в древние времена простиралась от Черного моря до Варяжского и до Ильмень-озера…»[159]
Первый лист «Древней Российской истории» Ломоносова. Издание 1758 года
Это представление о славной российской истории Ломоносов позднее закрепил в своей работе «Древняя Российская история»: «Сравнив тогдашнее состояние могущества и величества Славенского с нынешним, едва чувствительное нахожу в нем приращение… Того ради без сомнения заключить можно, что величество Славенских народов, вообще считая, стоит близ тысячи лет почти на одной мере»[160]. В ней же Ломоносов записал в славянские двенадцать народов, которые встречаются у древних авторов: венеды, енеты, сарматы, мидяне, амазоны, пафлагоны, иллирийцы, аланы, роксаланы, россы, болгары, пруссы. Хотел еще записать мосхов, да засомневался, видимо, не найдя аргументов против критики Миллера.
Но все же чисто научных аргументов у Ломоносова было слишком мало. Пообещав еще на первом собрании, 23 сентября, опровергнуть все утверждения Миллера и доказать происхождение русов от роксалан, Ломоносов попал в затруднительное положение. Доказать такое было нельзя, ибо большинство писателей, на которых потом ссылался Миллер в ответах, указывали, что роксоланы были вандальским племенем, то есть германским. Но и отступать ему тоже было нельзя. Тогда Ломоносов пошел на подлог взглядов Миллера. Он приписывал не принадлежащие ему взгляды и опровергал их, основываясь на авторитете киевского «Синопсиса».
Таким образом и появился норманизм, представляющий собой свод взглядов, приписанных Миллеру. В ломоносовской редакции, изложенной во втором репорте от 23 октября 1749 года, он заключался в следующих пунктах:
1. Варяги – это шведы.
2. Слово «росс» происходит из шведского или финского языка, принесено варягами-шведами и навязано как название русского народа.
3. Варяги захватили Новгородчину, постоянно побеждали и грабили славян, в чем выразилось превосходство шведов над славянами.
4. Варяги создали Русское государство и основали династию Рюриковичей, которая была шведской династией, в чем выразилась неспособность славян к созданию своего государства.
Хотя само слово «норманизм» появилось в историографии позднее, тем не менее уже в репорте Ломоносова он виден ясно и отчетливо как обозначение оппонентов, соглашающихся с тем, что Русское государство создали шведы, силой завоевавшие славян и навязавшие им свое правление.
Вот эти взгляды легко было критиковать Ломоносову со своих позиций, которые заключались в следующих пунктах:
1. Варяги – это только славяне.
2. Славянская земля простиралась по всей территории России, и приглашение Рюрика означало призвание князя из одной славянской земли другой славянской же землей.
3. Никаких войн новгородцев с варягами не было.
4. Название «росс» происходит от названия роксалан, россов, из которых был Рюрик.
5. Славяне с древности обладали гегемонией в Восточной Европе, что свидетельствует о славе и достоинстве славян.
Ломоносов, таким образом, задал основные координаты долгого спора. В этих пунктах довольно явно и отчетливо видны основные принципы антинорманизма, которые сравнительно немного изменились за 250 лет спора о варягах.
В этом споре научный, критический подход был отброшен в сторону, и отброшен впервые именно Ломоносовым. Его самые сильные аргументы происходили из политической сферы и состояли в двух словах в том, что нельзя считать славян молодым и пришлым народом и что нельзя допускать ни скандинавское происхождение варягов, ни варяжские завоевания на Руси. Считать так должно быть запрещено, чтобы из подобной истории не выводилось каких-либо негативных политических последствий вроде того, что Россия должна быть под шведским скипетром.
150
Миллер Г.Ф. Происхождение народа и имени российского. СПб., 1749. С. 7.
151
Миллер Г.Ф. Происхождение народа и имени российского. СПб., 1749. С. 9.
152
Миллер Г.Ф. Происхождение народа и имени российского. СПб., 1749. С. 22.
153
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 21. Фраза о Кие в ответе Ломоносова также навеяна соответствующим местом из киевского «Синопсиса», в котором утверждалась, что Кий помогал гуннам добровольно.
154
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 30.
155
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 19.
156
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 41.
157
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 22.
158
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 26.
159
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 26. По всей видимости, мы имеем дело с неким прообразом теории возникновения обширного Древнерусского государства, выдвинутой Ломоносовым.
160
Ломоносов М.В. Древняя Российская история. СПб., 1766. С. 8–9.