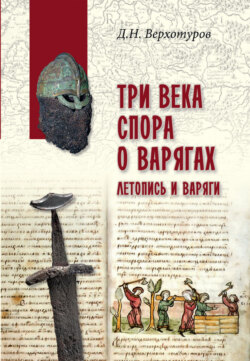Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава третья. Первый спор о варягах
В чем состояла ученость в русской истории. Михаила Ломоносова?
ОглавлениеМнения об учености Ломоносова нельзя назвать иначе, чем панегирическими. Пристальное внимание к его личности уделяли дореволюционные исследователи, в частности большой знаток истории Академии наук и развития просвещения в России П.П. Пекарский. Но особенно большое внимание его личности было посвящено в советское время. В 1961 году было отпраздновано 250-летие со дня рождения Ломоносова, в связи с чем изданы крупные работы, посвященные его жизни и творчеству. К юбилею было завершено издание «Полного собрания сочинений М.В. Ломоносова» в десяти томах, в 1961 году увидела свет «Летопись жизни и творчества М.В. Ломоносова», в которую были занесены все случаи и события жизни ученого, которые нашли отражение в документах. Надо сказать, работа по сбору биографических данных была проведена тщательная, в результате чего в летописи были зафиксированы многочисленные случаи, когда именно Ломоносов «наблюдал грозовые разряды». Кроме этого, вышел ряд монографии и популярных книг по самым разным сторонам его жизни и творчества, составленные в сугубо хвалебном тоне. Вот, например, достаточно типичное высказывание о Ломоносове: «Но каждый раз вглядываясь в его великие труды, с изумлением видишь, что не все еще понятно и сопоставлено, что настоящий гений Ломоносова неисчерпаем и долго еще будут люди находить в его творчестве свежие, оставшиеся непрочитанными страницы и разбирать их… поражаясь бурливому многообразию его кипучей натуры»[88].
Отсюда и пошла тенденция считать Ломоносова историком, профессиональным историком и даже чуть ли не самым лучшим русским историком XVIII столетия. Утверждение о том, что Ломоносов намного превосходил Миллера в знании русской истории, давно уже стало общим местом в историографии, и в советской историографии это совершенно не оспаривалось. Более того, пожалуй, трудно найти биографию, собрание сочинений Ломоносова или монографию, каким-то образом затрагивающую его творчество, в которой авторы не отметили бы, помимо всего прочего, достижения Ломоносова в области стихосложения и теории «штилей», а также русской истории. Представление о Ломоносове как о выдающемся историке держится на утверждении, что он был «гением», борцом за научную истину и занимался русской историей задолго до спора о варягах в 1749 году.
Правда, встает вопрос: откуда Ломоносов, получивший, как известно, естественно-научное образование, мог хорошо знать историю? Позиция большинства биографов ученого и историографов сводится к предположению, что Ломоносов читал русские летописи еще во время учебы в Киево-Могилянском коллегиуме в 1734 году: «И вот уже Ломоносов целыми днями просиживает над изучениями русских летописей. Перед ним проходят главные события отечественной истории, и цепкая его память навсегда удерживает прочитанное»[89]. То же самое утверждение есть и у В.В. Фомина: «Ломоносов, взрастая на Русском Севере, аккумулировавшем народную память, уже с детства, по верным словам В.И. Ламанского, впитывал историю Родины. Слушая в Славяно-греко-латинской академии курсы истории, а также пиитики и риторики, укреплявшие его интерес к истории вообще, он, овладев в совершенстве латынью (ее он знал, свидетельствует историк Фишер, «несравненно лучше Миллера», а сын Шлецера и его первый биограф Х. Шлецер назвал Ломоносова «первым латинистом не в одной только России») и читая по-гречески, самостоятельно изучает отечественные и зарубежные источники, прежде всего летописи, затем приумножая знания русской и европейской истории и совершенствуя навыки в работе с письменными памятниками в Киеве»[90].
Вообще, слова В.И. Ламанского, сколько бы они верны ни были, не могут служить доказательством большого авторитета Ломоносова в истории. Это очень странный аргумент – заявлять, что Ломоносов с детства интересовался историей и потому он может считаться крупным русским историком. Мало ли кто и чем интересовался в детстве, и для доказательства авторитета историка должны приниматься его научные труды, а не прочитанные в детстве или в университете книги по истории.
Документы же показывают, что Ломоносов так и не проявил последствий этого «навсегда удержанного прочитанного». Когда он в 1751 году засел за составление «Древней Российской истории», он первые три года провел за собиранием материалов. Причем сохранилась собственноручная записка Ломоносова о том, что он в 1753 году, готовясь к написанию этой работы, читал русские летописи, не делая выписок, чтобы иметь общее представление о деяниях князей[91]. В этой же записке указано, что Ломоносов познакомился с Нестором, законами Ярослава, «Большим летописцем», «Историей Российской» Татищева, трудами Кромера, Гельмольда, Арнольда и сделал из них выписки только в 1751 году, то есть спустя почти год после дискуссии[92]. Так не делает человек, если он уже детально знаком с историческими источниками!
О плохом знакомстве Ломоносова с историей говорит и тот факт, что в написании «Краткого Российского летописца» ему помогал библиотекарь академии А.И. Богданов, написавший второй раздел сочинения, с хронологическим перечислением князей и событий их правлений. При работе над «Древней Российской историей» Ломоносову помогал студент Введенский, в задачу которого входило чтение книг и составление выписок[93]. Это коренным образом противоречит версии о том, что Ломоносов «читал летописи впрок».
Единственное, что он действительно мог читать в Славяно-греко-латинской академии в Москве и в Киево-Могилянском коллегиуме по русской истории, – это «Синопсис». Другого учебника по русской истории тогда не было. Однако он не мог стать основой для подготовки Ломоносова к спору с Миллером, хотя именно там Ломоносов почерпнул основные тезисы для своей позиции в споре. Это сочинение основное внимание уделяет описанию жизни князя Владимира и крещения Руси, Дмитрия Донского и Куликовской битвы, тогда как происхождение славян и жизнь первых русских князей упоминаются бегло и конспективно. В изложении прихода варягов киевский «Синопсис» следует сказанию о призвании варягов из Несторовой летописи.
Если его собственноручные документы показывают недостаточное знание русской истории перед написанием «Древней Российской истории», то откуда пошло мнение о том, что он «читал летописи»? Намек на это, как казалось ряду исследователей, содержался в ответах Миллеру, где Ломоносов говорит об источниках по русской истории. Это было воспринято как доказательство его глубокого знания летописного материала: «Вопрос об источниковой базе оппонента Ломоносов, что характеризует его профессионализм, поднял в первом пункте своего первого отзыва на диссертацию…»[94] В «Очерках истории исторической науки в СССР» этот момент гипертрофировали в такой степени, что заявили: «Ломоносов опирался в своих работах на огромную массу привлеченных им источников, подавая образцы передового для своего времени истолкования исторических документов»[95]. Был еще один аргумент в пользу этого утверждения. На нескольких летописях и древних рукописях, хранящихся в архиве Академии наук, были обнаружены пометки, сделанные рукой Ломоносова: Патриаршем списке Никоновской летописи, «Хронографе» редакции 1512 года и в Псковской летописи, а также на полях Киево-Печерского Патерика. На полях Патриаршего списка Ломоносов начертал «варяги и жмудь вместе», а на полях Киево-Печерского Патерика – «Latini wasi». Заметки и подчеркивания найдены Г.Н. Моисеевой, и эти находки значительно расширили корпус «исторических заметок», оставленных Ломоносовым на полях рукописей. До этих поисков были известны только заметки на полях Киево-Печерского Патерика[96]. Несколько росчерков на полях летописей – вот какие у нас выдающиеся доказательства исторического авторитета Ломоносова! Однако этот момент является недоказанным. Во-первых, поступление рукописей в Академию наук до 1749 года и наличие заметок Ломоносова на них не доказывает тот факт, что они сделаны до дискуссии. Напротив, документы из архива Ломоносова свидетельствуют, что он стал заниматься чтением летописей после дискуссии, и более правдоподобна версия, что заметки появились в 50-х годах XVIII века.
Помимо киевского «Синопсиса» мог быть еще один источник некоторых познаний Ломоносова в русской истории. Это «История Российская» В.Н. Татищева. Хотя некоторые авторы считают, будто бы Татищев отправлял ее для рецензирования Ломоносову[97], тем не менее это не так. В предисловии к первому тому «Истории Российской» В.Н. Татищева, в издании 60-х годов ХХ века, подробно излагается история сего труда. Первые тетради своего сочинения Татищев переслал в Академию наук для переписывания еще в декабре 1739 года, причем связь он поддерживал только с Шумахером. Когда в 1742–1743 годах Шумахер не управлял делами академии, Татищев не имел связи с ней. В начале 1747 года он переслал первую часть своей книги, а в конце 1748 года написал Шумахеру письмо, в котором просил его поручить Ломоносову написать посвящение к первой части[98]. Тогда предполагалось издание первой части, и Татищев пожелал, чтобы у книги появилось посвящение Ломоносова, которое должно было привлечь внимание двора к труду историка. Подчеркиваем: посвящение, а не рецензия! Ломоносов посвящение к книге Татищева написал. Очевидно, он также прочитал ее перед этим и, видимо, согласился с ее главным тезисом: «Сколько монархическое правление государству нашему протчих полезнее, чрез которое богатство, сила и слава государства умножается, а чрез протчее умаляется и гинет»[99].
Михаил Васильевич Ломоносов. Портрет 1765 г.
До спора с Миллером Ломоносов имел всего три касательства к русской истории. Первое – в 1746 году, когда составлялась надпись к серебряной раке для мощей Александра Невского, в чем Ломоносов также принимал участие[100]. Второе – уже упомянутый выше разбор «Родословия великих князей, царей и императоров» П.Н. Крекшина. Третье – написание посвящения «Истории Российской» В.Н. Татищева в 1748 году. Конечно, некоторое представление о русской истории у него было, но назвать его «профессиональным историком» и вообще образцом учености в исторической области было бы чрезмерно большим преувеличением. У Ломоносова и так хватает научных заслуг, чтобы приписывать ему еще и несуществующие.
88
Западов А. М.В. Ломоносов и журналистика. М.: МГУ, 1961. С. 5.
89
Лебедев Е. Михаил Васильевич Ломоносов… С. 35.
90
Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М.: Русская панорама, 2005. С. 88.
91
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 573.
92
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 573.
93
Текст записки в канцелярию Академии наук от 12 марта 1757 года: «Но как дело требует чтения весьма многих разных книг с выписками, то вельми одному мне сего исправить и к концу привести невозможно» (Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 575).
94
Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь… С. 90.
95
Очерки истории исторической науки в СССР / Под ред. М.Н. Тихомирова. Т. 1. М.: АН СССР, 1955. С. 195.
96
Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь… С. 90.
97
Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь. С. 89.
98
Татищев В.Н. История Российская. Т. 1. М. –Л.: АН СССР, 1962. С. 24, 35.
99
Цит. по: Шапиро А.Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 года. М.: Россия – Культура, 1993. С. 177.
100
Пештич С.Л. Русская историография XVIII века. Ч. 1. Л.: ЛГУ, 1961. С. 169.