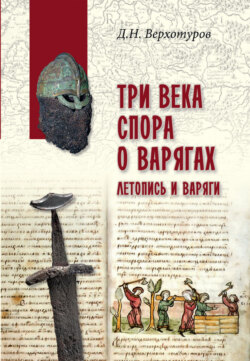Читать книгу Три века спора о варягах. Летопись и варяги - Дмитрий Верхотуров - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава первая. Происхождение русского национального нарратива
Чем Россия отличалась от Европы?
ОглавлениеЕсли просмотреть труды европейских исследователей сотворения национальных нарративов, например книгу Бенедикта Андерсона, то в них можно заметить одну интересную особенность. Россия там, конечно, упоминается как страна, тоже пошедшая по пути формирования своего национального нарратива. Только его возникновение датируется там очень поздним временем и относится ими к началу и даже первой трети XIX века. Андерсон считает, что русская национальная идентичность возникла в ответ на национальные движения в Европе, и главным образом после Наполеоновских войн, и была связана с трудами С.С. Уварова, президента Императорской академии наук и министра народного просвещения, выдвинувшего при вступлении в министерскую должность 21 марта 1834 года свою знаменитую формулу «Православие, самодержавие, народность»[9].
С.С. Серов
С этой точкой зрения нельзя согласиться никоим образом. Надо полагать, что она возникла в силу исключительно плохого знакомства европейских исследователей с русской историографией, а также недооценки некоторых специфических русских особенностей, которых не было в Европе.
Исследователи истории развития европейского национализма подчеркивают, что этот процесс начался и шел на основе религиозного протестантизма и в борьбе против своего главного конкурента в сфере идентичности – религиозного универсализма, оплотом которого была католическая церковь. Национальные языки развивались и создавали свою литературу в борьбе с латынью, языком церкви, образования и науки позднесредневековой Европы. Хотя надо отметить, что языковая борьба была в наибольшей степени характерна для германских стран; в романских странах грань между латынью и новыми языками не была столь резкой. На оформление европейского национализма также оказала политическая борьба за основание национальных государств с монархиями, равно как и борьба против династического государства как такового, часто собиравшего разные земли и народы под одним скипетром[10].
В России были специфические условия для возникновения национального самосознания. Во-первых, ему не нужно было вести борьбу с религией, поскольку православие задолго до первых попыток осознания национальной идентичности стало важным устоем широкой народной идентичности, а также в силу исторических причин опорой для политических претензий государства. Как известно, еще во времена князя московского Ивана III старец Филофей сформулировал свой знаменитый принцип: «Москва – Третий Рим». Православие считало себя истинным христианством, а поскольку все остальные православные государства пали под натиском завоевателей и осталась только Московия, то Филофей и написал: «…яко все христианские царства пришли, вконец и сошлись в единое царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть римское царство: два других Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать…»[11]
К этому еще стоит добавить упорную борьбу православных с католичеством и униатством, которая интенсивно шла в XVI–XVII веках. Православие, постулируя свою уникальность и истинность, таким образом резко отграничивало русских от других народов и в этом смысле представляло собой питательную среду для возникновения самосознания вполне национального образца. Это, видимо, является одной из причин, почему в России не было широкого и массового протестантизма.
Во-вторых, русское православие с самых ранних пор использовало славянский язык, Библия и Псалтырь были переведены с греческого на славянский, очень близкий к народному языку и даже теперь в основном понятный прихожанам. Помимо отсутствия конфликта между национальным самосознанием и православием не возникло также языкового конфликта, столь характерного для развития национализма в Европе. В России национальный язык развивался на основе в том числе языка церкви и богатой церковной литературы с ее почтенной историей. Это было уникальное условие, когда язык церкви, государства и народа практически совпадали.
Это обстоятельство было явно недопонято европейскими исследователями, тем же Андерсоном. Он искал следы привычного ему языкового конфликта, подчеркивая, что в России при дворе говорили по-французски, а мелкое дворянство говорило по-немецки (хотя стоит заметить, что и при дворе были франкофонные и немецкоговорящие фракции). Это, конечно, правда, но не вся. Русские дворяне были в массе своей двуязычными, то есть владели русским языком в достаточном совершенстве, а те дворяне, которые говорили на нем плохо, были предметом насмешек. К тому же, как прекрасно известно, государственная канцелярия всегда велась по-русски, то есть русский язык занимал твердую позицию государственного языка.
Таким образом, русское национальное самосознание в России имело ценное преимущество – исторически сложившийся единый и общепонятный язык. Это очень существенно облегчало построение исторического нарратива, поскольку позволяло прямо и непосредственно черпать необходимый для этого материал из многочисленных летописей, в том числе и древнейших. В Европе, особенно германской ее части, такого не было, поскольку там тексты были латинскими, а народный язык Средневековья существенно отличался от современного[12]. Более того, вплоть до появления «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина именно летопись была главной литературной формой русского исторического нарратива.
В-третьих, в России не было борьбы с династическим государством, напротив даже, именно династическое государство Рюриковичей и Романовых (здесь надо особо подчеркнуть, что основатель второй династии Михаил Федорович состоял в родстве с Федором Иоанновичем, последним царем из династии Рюриковичей; то есть между ними была династическая связь) стало одной из основных колонн, подпиравших русскую национальную идею, национальное самосознание и нарратив. Даже советская версия нарратива, несмотря на ее марксистские основания и антимонархическую риторику, опиралась на эту колонну и всячески пресекала попытки ее подрубить.
Такое столь необычное для Европы слияние династического и национального государства, очевидно, произошло вследствие того, что православие с давних пор стало важнейшим элементом народного самосознания, а русские цари всегда провозглашали себя защитниками православия. Даже во время петровской секуляризации не произошло разрыва церкви и государства; Петр I учредил Святейший Правительствующий Синод, признанный в равнопатриаршем достоинстве константинопольским и антиохийским патриархами. Тесная связь между православием и государством с очевидностью делала невозможной политическую борьбу против династического государства, поскольку такая борьба вела бы к отпадению от православия и утрате связи с русским народом. Такая борьба оказалась возможной лишь на основе марксизма, категорически отрицавшего ценность и монархии, и религии, стоявшего на идее интернационализма. Но и советским марксистам во время Великой Отечественной войны, ради сплочения населения перед лицом врага, пришлось прибегнуть к этим традиционным ценностям. После войны была сделана попытка заменить русскую национальную идею на идею советского народа, выдвинутую в 1944 году Н.В. Нечкиной, оказавшуюся в исторической перспективе не слишком удачной и стабильной.
Так что С.С. Уваров лишь свел в афористичную формулу эти три компонента русского национального самосознания, исторически существовавшие и развивавшиеся в тесной связи: династическое государство Рюриковичей и Романовых, православную веру и народ, издревле пользовавшийся общепонятным языком, из которого развился национальный язык[13]. Причем тесные взаимосвязи этих компонентов оформились задолго до того, как в России приступили к построению национального нарратива.
Если этих особенностей России не знать и не понимать, как это видно в работах европейских исследователей национализма, то нельзя сказать, почему русская национальная идея оформилась столь своеобразным образом. У того же Андерсона российский пример предстает как некий феномен, не находящий должного объяснения в рамках его концепции. Между тем если учесть вышеозначенные особенности, то и этот пример укладывается в концепцию нации как воображаемого сообщества. Пользуясь этой концепцией, не так трудно распутать клубок долгого спора о варягах.
9
Андерсон Б. Воображаемые сообщества… С. 108.
10
Андерсон Б. Воображаемые сообщества… С. 48.
11
Послание Филофея, игумена Елизаровской пустыни, к Государю великому Василию Ивановичу всея Руси // БАН, собр. Ф. Плигина, № 57, 21.5.15, рук. XVII в. А. 121 об.
12
Андерсон Б. Воображаемые сообщества… С. 67.
13
Лингвистические исследования показали, что существовали многочисленные диалекты и говоры, имевшие между собой различия, которые не препятствовали пониманию.