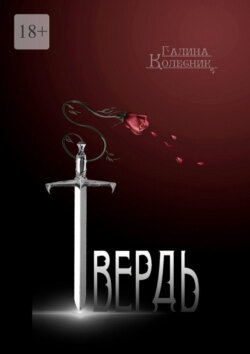Читать книгу Твердь. Альтернативный взгляд на историю средних веков - Галина Колесник - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ТАЙНЫ КВЕДЛИНА
Двенадцатая глава
ОглавлениеМедовый июль шёл к концу. Утверждающе – хвастливо наполнял неподъёмные корзины тугими, величиной с мужицкий кулак, краснобокими яблоками, желтоватыми, в бурых крапинах грушами, сумеречно – кровавой вишней, тяжёлыми виноградными гроздьями в крупных, матово – розовых ягодах. Величавой рекой плыла белокочанная капуста, морковная «челядь» полыхала ярко, сочно, пряная зелень в чесночно – луковых стрелах строго блюла сохранность и порядок.
Хрустя малосольным огурчиком, Зонненберг неспешно обходил воскресные подводы. Вернер и Томас ушли в самый конец вереницы, и оттуда двигались навстречу Паулю. Чисто выбритый, помолодевший, в праздничной белой рубахе с открытым воротом, – Зонненберг в это утро был почти неузнаваем. Люди соскакивали с подвод, изумлённо перешёптывались. Молодухи, рдея стыдливым румянцем, глаза опускали. Бабы, – те, что побойчее, глядели ласково, зазывно. Поскрипывая новенькими сапогами, Зонненберг с мужиками здоровался степенно, вежливо кивал медной головой, бабам широко улыбался, озорно подмигивал. Сопя и отдуваясь, подошёл старый Томас.
– « Чисто!» – доложил он Зонненбергу, – « Пусть проезжают!»
Пауль обернулся к шлагбауму, призывно махнул рукой, – и подводы, одна за другой, «поплыли» в распахнутые ворота.
– « Жара!» – страдал Томас, отирая потное лицо, – « Жена с утра, на тебе, – полную чашку толчанников, кувшин топленца! Тяжко…»
– « Потчует, значит, любит!» – смеялся Зонненберг.
– « Старуха!» – сердито отзывался Томас, – « На убой кормит!»
– « Ну, ну…» – Пауль искал глазами юного Вернера, – « Куда этот мальчишка запропастился?»
Вернер шёл, сопровождая последнюю подводу, поглядывал на милую синеглазую девчонку, на её чудную косу, – и робел. Место возницы занимала, чем-то знакомая Зонненбергу, бойкая, румяная бабочка. И пока он вспоминал; « Где?» и « Когда?», она, уже будучи, в самой, что ни на есть, опасной близости от него, – грудь слегка приоткрыла, и отослала Паулю горячий воздушный поцелуй, – и пунцового Вернера с лукошком таких же, пунцовых яблок.
У старого Томаса челюсть отвисла, а Зонненберг, принимая её нехитрую игру, рассмеялся и задорно крикнул вослед, – « Привет и тебе, вкусное сальце с чесночком!»
Томас с Вернером заговорщически переглянулись, и старик тут же взял начальника в оборот.
– « На вечерней зорьке, как бабёнка то возвернётся, подсядьте к ней, – вместе заночуете, вы холостой, она вдовая», – горячо убеждал Томас Пауля, – « И помяните моё слово; всё у вас сладится, как нельзя лучше!»
Юный Вернер краснел и поддакивал.
Но чем больше распалялся старый повеса, тем скучнее становился Зонненберг. Лицо его посерело, широкие плечи опали, развелись медные кудряшки…
Издалека, из горьких, бессонных ночей, напомнила о себе боль великая, придавила исполина к земле.
– « Не могу», – качнулся он, отстраняясь от старика, – «Не пускает!»
– « Да, кто не пускает!?» – вспылил Томас, но глянул на Зонненберга и осёкся.
– « Память…» – прошептал Пауль так тихо, будто бы самому себе, слепо повернулся и пошёл, не разбирая дороги, куда-то вниз, в луга, нетвёрдым, преувеличенно широким шагом, словно боялся оступиться…
………………………………………………………………………………………..
На вечерней зорьке, когда последняя подвода покинула город, вернулся и Зонненберг. Отпустил Томаса с Вернером по домам. Задержался у колодца. Долго, до ломоты в зубах, пил обжигающую ледяную воду, и не мог напиться. Страдала душа, и страдая, – терзала тело!
Морщась от боли, Пауль осторожно, через голову, снял рубаху, глянул, – и его замутило; огнём горел, исходил сукровицей, рваный, незаживающий рубец от памятного удара пикой…
………………………………………………………………………………………….
Давно это было. Слыл он тогда дерзким, горячим и честолюбивым! Бесстрашным воином, златокудрым Зигфридом стремился в самое пекло! И был, как и он, – неуязвим…
…Долгие месяцы его душа балансировала между жизнью и смертью… Но однажды, Пауль открыл глаза, дрожа от холода повернулся набок, подтянул колени к подбородку, пытаясь согреться, и вдруг увидел, что лежит на каменном полу в мертвецкой, нагой, обложенный льдом, как и прочие!
Подгоняемый неподдельным ужасом и набатными ударами сердца, он выполз на четвереньках из людского могильника, ударился лбом о неплотно прикрытую дверь, и оказался на больничном дворе. В духоте июльской ночи голое тело быстро согревалось, но его следовало чем-то прикрыть. Хоронясь за деревьями, парень добежал до прачечной, выбрал из сохнущего на верёвках белья почти не рваную рубаху, более-менее приличные штаны. Через дыру в заборе выскользнул наружу и пошёл, куда глаза глядят…
К утру набрёл на маленькую незнакомую деревню. Постучал в крайнюю избу. Из сенной темени выползла на свет седая, как лунь, горбатая старуха. Долго стояла, опираясь на клюку, с неприязнью разглядывая непрошеного гостя. Вынесла немного молока и хлеба, но в избу не позвала. Ему всё же удалось выспросить у неё дорогу, – оказалось недалеко, рукой подать! И Пауль повеселел.
Он не просто возвращался домой, – там, куда он шёл, ждала молодая жена, и его новорожденный сын, его златокудрый Зигфрид!
До ночи проплутав в лесу, выбрался на широкую луговину, и в старом пастушьем шалаше заночевал. К полудню следующего дня Пауль перешёл вброд мелководную, сонную речушку, – и оказался на родном берегу. Увидел знакомые, крытые выцветшей на солнце соломой избяные крыши, – сердце его затрепетало, и он ускорил шаг.
Деревенская улица в эти часы была безлюдна. Сельчане работали в поле, дома оставались лишь немощные старики, да шкодливая безнадзорная ребятня. Откуда не возьмись, выкатился ему под ноги местный дурачок Вилли, – ласковый, безобидный. Пауль растрогался и погладил стриженую макушку. Но Вилли вдруг заверещал, как резаный, и понёсся прочь, оглашая пустынную улицу дикими воплями. Разомлевшие на солнышке немногочисленные старухи очнулись от дрёмы и, загоняя любопытных ребятишек, все, как одна расползлись по домам. Предчувствуя беду, Пауль бросился со всех ног к родной избе, увидел заколоченную крест – накрест дверь, и осел в пыль…
Очнулся он только к вечеру следующего дня в хате у старосты.
– « Марта!» – позвал он в пустоту, и тут же сердобольная хозяйка дома заохала, захлопотала над ним. Усадила за стол, достала из печи добрый чугунок ароматного, заправленного салом кулеша. Староста резал приземистый ржаной каравай толстыми ломтями, внимательно поглядывал на Пауля из-под насупленных сивых бровей, и, видя, что тот не притрагивается к еде, со всей силы хватил кулаком по столу.
– « А ну-ка, ешь!» – крикнул он в сердцах, – « Не всякий день у меня покойники оживают! А ты уж год, как покойник! Ешь! Докажи, что ты живой!»
Пауль послушно сунул в рот ложку горячего варева, обжёгся, – и тут до него дошло.
– « Я, покойник?!» – то ли вопрошая, то ли утверждая, пробормотал он, – « И для Марты я тоже покойник?!»
– « А, что ты хотел!» – сердито заворчал староста, суя ему под нос мятую, с полинявшей гербовой печатью бумагу, – « Вот! Год назад похоронка на тебя пришла! Читай! Ты ведь грамотный!»
Пауль скользнул затуманенным взором по уходящим в небытие аккуратным лесенкам строк, увидел только «погиб», и рядом «смертью героя»… А в конце пугающе-нелепо «захоронен на месте сражения»…
– «Ты дату смотри!» – староста ткнул заскорузлым пальцем в крайний правый угол, – «Год назад, – как я и говорил!»
– « Довольно!» – в отчаяние крикнул Пауль, вскакивая из-за стола, – « Где моя жена?! Сын мой где?! Живы они, или мертвы?! Отвечайте!»
– « Верится нам, – жива твоя Марта, типун тебе на язык!» – староста переглянулся с супружницей. Та закивала.
– « Год назад, как похоронку она на тебя получила», – продолжал староста, – « Ни дня более не осталась в деревне, дверь заколотила, дитёнка на руки, – и была такова!»
– « А куда пошла, никому не сказывала…» – тихо молвила хозяйка, прибирая со стола, – « Может в соседнем селе обосновалась, или далече отправилась…»
– « Как же мне быть?» – горестно шептал Пауль, и сам себе отвечал, – « Не знаю, не знаю…»
– « Ты, милок, не кручинься», – певуче отзывалась женщина, – «Ты ищи! И, дай бог, до зимы найдётся и Марта и сынок твой!»
– « Я уже иду…» – сонно бормотал парень, клонился головой к столу, и глаза его закрывались.
– « Через неделю и пойдёшь!» – соглашался староста, глядя на спящего и горько усмехаясь, – « Зачем спешить, коль за тебя уже поторопились…»
………………………………………………………………………………………..
До осени Пауль «истоптал» вдоль и поперёк весь благодатный юг. Где плотничал, где нанимался в пастухи, кому и печи перекладывал. Но везде, куда бы ни заходил, расспрашивал о своей жене, о маленьком сыне, – то исподволь, то, с откровенной назойливостью, то, отчаявшись в бесплодных поисках, учинял собственное расследование, – зачастую беззаконное.
Его били, травили собаками, и как человека без документов, и без определённого места жительства, сажали за бродяжничество. И снова били…
Он, тогда, уходил от людей, уходил далеко, как только мог. Скитаясь в бесконечных лесах, зализывал раны. А, порой, становилось совсем невмоготу, и в горле, закипая, клокотали слёзы, и он поднимал к ночному светилу худое, заросшее жёсткой звериной щетиной лицо и, стеная, выл! Выл тоскливо и обречённо! И воздух, отравленный человеческой болью, делался густым и тягучим, как яд!
Звери покидали норы! Птицы, – гнёзда! И, подгоняемая незримой бедой, – уходила за горизонт волчья стая!
Его снова тянуло к людям, – и он возвращался…
За четыре долгих года Пауль побывал и в восточных и в западных землях, но, опять же, безуспешно…
В преддверие пятой зимы он пришёл в маленький северный городок. Днём работал подручным у местного кузнеца, а по ночам уходил на окраину, где сторожил амбары от лихого люда. Ждал весенней оттепели…
Тешил себя мыслью о том, что жена с сыном уже давным-давно дома, и, зная, что он жив, здоров и невредим, – ждёт его возвращения.
В вечерних сумерках выходит на крыльцо, долго всматривается вдаль…
– « Ты ж приди, воротись, друг мой, сердечный,» – шепчут её губы…
Но тает, растворяется в снежной замети голос любимой…
Вьюжит, ах, как вьюжит бесконечный февраль!
И тоска, тоска…
…………………………………………………………………………………………
К весенней распутице Пауль получил расчёт, выправил документы, и засобирался в дорогу. Но накануне похода он проснулся совершенно больным, – в жару и лихорадке. Кое-как добрался до кадушки, напился воды, и вроде бы, отпустило. Через полчаса к нему заглянул кузнец, – пришёл проститься, принёс в дорогу лепёшек и вяленого мяса. Присмотревшись к постояльцу, заметил, что тот непривычно вял, и, как-то, не по-хорошему бледен.
– « Ты, чего?» – встревожился кузнец, – « Ай, неможется?»
– « Пустое…» – пробормотал Пауль, натягивая сапоги.
– « Как скажешь!» – не обиделся тот, – « Обнимемся, что ли, напоследок?»
Пытаясь улыбнуться, Зонненберг поднялся навстречу, сделал шаг, – и без чувств повалился в медвежьи объятия кузнеца…
…………………………………………………………………………………………..
Они бежали по майскому лугу, крепко взявшись за руки, – счастливые, неразлучные; мать, отец, и дитя.… Остановились в высокой траве…
Ласково, бездумно тиская сына, Пауль долго целовал сладкие, пахнущие молоком щёчки, рыжие шёлковые кудряшки…
Малыш не противился, не капризничал, был серьёзен, и совсем уж, не по-детски, задумчив…
Терпеливо высвободил свои пальчики из отцовской ладони, и, не оглядываясь, пошёл, а затем и побежал вперед, вслед за ускользающим солнцем. И пропал из вида…
Совершенно сбитый с толку, Пауль обернулся, ища глазами любимую, – увидел, как позади него разрастаясь, сгущается мрак, и в этот мрак уходит его Марта, уходит безвозвратно, навсегда!
И, едва уловимый трепет, спешит, торопится по верхушкам трав, от неё к нему, – « Прощай, прощай!». И тишина…
И он кричит так горько, так отчаянно, – что пробуждается от собственного крика…
– « Живой!» – рокочет над самым его ухом знакомый голос. Пауль открывает глаза, и сквозь пелену слёз проступает добродушное, бородатое лицо кузнеца. Слышны чьи-то торопливые, семенящие шаги, – Пауль поворачивает голову к двери, и на пороге возникает маленькая, вёрткая старушка.
– « Ты, глянь!» – радостно гудит кузнец, подмигивая бабке, – « Выкарабкался наш молодец! Ставь-ка, мать, курицу варить!»
А сам присаживается на кровать, наклоняется над Паулем.
– « Напугал, ты, нас,» – сокрушённо качая головой, бормочет кузнец, – « Схватил я тебя в охапку, до лежака донёс. Сюртук расстегнул, – а там; нижняя рубаха вся в крови! Рана, то, аккурат, на два пальца ниже сердца! Я прислушался, а ты, чу, – и не дышишь вовсе!»
Кузнец перевёл дух, покосился на приоткрытую дверь, – « Мать моя, почитай, с того света тебя вытащила! А как, – мне неведомо, а было б ведомо, – всё, одно, – рот на замок и молчок!»
– « Ведунья, она, ведьма, значит!» – догадался Пауль.
– « Молчи, родимый!» – испуганно замахал руками кузнец, – « Не губи! Ведь там, где трое знают, – знают все! А с ведьмами разговор короткий, – в омут головой, и вся недолга!»
– « Плохо ты меня знаешь, кузнец», – усмехнулся Пауль, – « Я за добро никогда подлостью не платил!»
………………………………………………………………………………………..
Вернулась старуха, поглядела на постояльца ласково. Пошептавшись с кузнецом, спровадила его за дверь, – а дверь на крючок. Оправила одеяло и подсела к Паулю.
– « А, ну-ка, милок, сказывай,» – заговорила старуха, совершенно не в лад её образу, молодым, певучим голосом, – « Что ж тебе такого во сне привиделось? Ведь неспроста же ты, сердечный, так кричал!»
– « Привиделось…,» – тихо отозвался Пауль, – мятный дух, исходящий от бабки, покоил, нежил, – « Не успел на жену наглядеться, как она во тьму канула… Сынка едва приласкал, – да и он меня покинул, к солнышку убежал… А я один стою на распутье, и ноги мои, словно немощны, нейдут…»
– « Вот всё и разрешилось…», – молвила старуха, кивая головой, соглашаясь, – «И сон твой вещий, и мои видения, – всё одно к одному!»
– « Жёнушка-то, твоя…,» – бабка замялась…
– « Умерла?!» – вскрикнул Пауль, испуганно таращась на ведунью.
– « Умерла!» – сурово подтвердила она, и, видя, что постоялец не на шутку обеспокоился, привстала с кровати, с тревогой поглядывая на Пауля.
– « Опять, что ли, сырость собрался разводить?» – рассердилась старуха, – « Нут-ка, слёзы-то утри, да послушай, что я тебе поведаю!»
Судорожно вздрагивая, Пауль промокнул глаза рукавом рубахи и стыдливо притих.
– « Ты ведь когда в беспамятстве лежал…,» – заговорила бабка, – « Покойница каждую ночь к тебе приходила. Чу! Полночь бьёт, – и она, уж, тут, как, тут! Встанет у изголовья, и всё плачет, всё прощается.… Снова полночь, – и снова она! Ни одного разу не пропустила, – а ты, ведь, почти месяц был ни жив, ни мёртв! Сегодня утром, перед твоим пробуждением, чую, будто ветерок по комнатке прошёл! И, словно, её голос трижды прошептал, – «Услышана! Услышана! Услышана!» И я, тоже, трижды всё перекрестила, – чтобы душе упокоенной открылось Царствие Небесное!»
Теребя край одеяла, Пауль не сводил полубезумных глаз со старухи, и, будто бы, ещё чего-то ждал…
– « А, сынок твой, жив!» – закивала бабка, отвечая на его немую просьбу, – « К солнышку он побежал, – значит, в хорошую жизнь! Будет сыт, здоров, – и минует его всякая лихая беда!»
– « И, что же!» – с отчаянием выдохнул Пауль, – « Как я теперь его найду?! Да и найду, ли?!»
– « А ты и не ищи!» – холодно осадила его ведунья, – « Он к тебе сам придёт!» – и, помедлив, добавила, – « Когда вырастет…»
………………………………………………………………………………………….
Остался Зонненберг у кузнеца со старухой ещё на год. Так он им и сказал, во всяком случае, – « Год поживу, а дальше видно будет!» А, чтобы тоска не донимала, руки сложа не сидел. Починил прохудившуюся крышу сарая, изгородь новую поставил и, чувствуя, как прибывает, играет в его теле силушка, – отправился в кузницу.
Хозяин увидел постояльца, и аж в лице переменился.
– « Да уйди ты!» – закричал он, чуть не плача, – « Уйди, бога ради! Молотом пару раз махнёшь, – рана откроется!»
И перед самым его носом дверь то и захлопнул!
– « Подумаешь!» – фыркнул Пауль, направляясь к сараю, – « В кузницу нельзя, – за дровами поеду!»
– « Я, тебе поеду!» – появляясь на пороге, скрипуче отозвалась старуха, – « Как все соберутся, тогда и тебя отпущу!»
– « Только топора с собой не дам!» – заявила она, хитро щурясь на постояльца, – « Тесачок у меня есть, махонький, такой, – будешь им сучья тюкать: Тюк! Тюк!»
– « Сговорились!» – рассмеялся Пауль, – « Куда ж теперь пойти?»
– « А пойдём в избу, милок», – тут же нашлась бабка, – « Я и ватрушек с творогом напекла! Мягкие, вкусные, – ай поешь!»
– « Ватрушки!» – оживился хозяин, выглядывая из кузницы.
– « Скройся!» – прикрикнула на него старуха, – « Не ты ли с утра чугунок каши с салом умял, – вот и терпи до ужина!»
– « Я то потерплю, да ватрушки остынут!» – резонно заметил кузнец, вешая фартук на крючок, – « Ты, мать, не ворчи, а корми-ка нас обоих!»
– « Ну, ну», – лукаво отозвалась старуха, направляясь в избу, – « Скажи-ка лучше, что тебе без Пауля, не естся, и не пьётся! А то, ведь, он в дорогу собрался!»
– « И то, правда», – соглашался кузнец, усаживаясь за стол, и ласково поглядывая на постояльца, – « Далась тебе эта дорога! Оставайся насовсем, – да и живи! Нам хорошо, и тебе покойно!»
– « Оставайся!» – закивала бабка, щедро поливая ватрушки растопленным маслом, и подвигая их поближе к Паулю.
И Пауль, возможно бы, остался, но на исходе лета, в полуденный час, объявился в городке военный глашатай, а вместе с ним, румяный черноусый капитан. Формировалось ополчение, и параллельно шёл набор в знаменитый Берлихенский легион.
На городской площади, подле ратуши, соорудили небольшой помост для глашатая и длинный стол для капитана.
Поутру в город прибыл верховой, – десятник из легиона.
Десятник помост приказал разобрать, а капитана с глашатаем наказал, – отправив в утомительно-долгое хождение по дворам.
Пауль чинил во дворе древнюю бабкину прялку, – ждал удобного момента, чтобы незамеченным выскользнуть со двора. Когда послеобеденный сон сморил старуху, а, спустя некоторое время угомонился и кузнец, Пауль вынул из тайника документы и похоронку, переодел рубаху и направился к ратуше.
На городской площади за длинным столом сидел приезжий десятник и откровенно скучал. За первую половину дня возле него покрутилась стайка любопытных девчонок, две молодухи с полными корзинами белья спустились к речной заводи. Баба с лукошком яиц, старуха с вязанкой хвороста. Тётка навеселе, с коровой, – через всю площадь! А навстречу ей, – родственница с козой. Поздоровались, – разошлись…
Десятнику начало казаться, что он попал в какое-то неведомое женское поселение, где мужского полу отродясь не водилось.
Вдалеке, что-то сердито заученно кричал глашатай, и визгливый голос отвечал ему, а по голосу, – баба!
Утомлённый солнцем и тревожными мыслями, десятник задремал, а когда открыл глаза, перед ним стоял очень высокий, широкоплечий, статный молодец, – просто мечта Берлихенского легиона!
Сдержанно улыбаясь, десятник развернул поданные документы, быстро пробежал глазами значимое: фамилию, год, место рождения…
Подивился прочерку в графе: военнообязанный. Увидел новенькую печать, дату, и нахмурился.
– « А почему документы выданы повторно?» – недовольно осведомился он, – « Если утерял, то с какой целью? Выправка у тебя военная, а в графе пусто, почему? Может ты, – дезертир?!» – сыпал вопросами десятник.
Пауль молча, положил на стол похоронку, и уже не раздумывая, стянул через голову рубаху…
Оживлённо переговариваясь, пришли капитан с глашатаем, привели за собой пятерых мужиков, и троих, совсем юных парней, увидели Зонненберга и замерли на почтительном расстояние.
Десятник, то читал похоронный листок, то поднимал затуманенные глаза, но смотрел не на Пауля, а на страшный багровый рубец, опоясывающий его сердце. Что-то невнятно бормоча, десятник снова опускал слепой взгляд к бумажке, пытаясь осмыслить написанное, и не мог…
Ситуация складывалась крайне странная: пришёл покойник, – но живой! Жуткая рана, – но хочет воевать! Как быть? Ведь он не может его взять, – и не взять, не может!
Десятник нерешительно глянул на Пауля.
Тот шагнул навстречу, – и солнце погасло за его спиной…
– « Возьмите!» – тихо, но твёрдо сказал Зонненберг, – « Я не приму отказа!»
………………………………………………………………………………………….
Не много, ни мало, – но двадцать лет минуло с тех пор…
Двадцать лет военной службы в бесчисленных походах и сражениях укрепило его тело и дух, вылепило из сказочного, хрупкого Зигфрида, – «железного» Зонненберга, настоящего воина, непримиримого с любым проявлением слабости, рассудительно холодного, жёсткого стоика!
И никто даже предположить не мог, что там, за стальными латами, по прежнему бьётся, живое, тоскующее и любящее, сердце!
Он так ревностно оберегал от внешнего мира и его гулкий набат, и ласковый, едва различимый трепет, – и сердце, в благодарность, снова и снова разжигало в его душе огонёк надежды…
…………………………………………………………………………………………
На исходе двадцатилетнего срока Зонненберг подал в отставку, решив осесть где-нибудь в неприметном тихом месте, – и судьба занесла его в Кведлин…
Ему настолько понравился этот небольшой, уютный городок, с его бесчисленными узкими улочками и аккуратными палисадниками, – что, на какое-то мгновение, Пауль ощутил себя дома, и, уже не раздумывая, остался.
…………………………………………………………………………………………..
Он скорее почувствовал, чем услышал, – кто-то подъехал!
Освобождаясь от затянувшейся дрёмы, Зонненберг открыл глаза, – возле таможенного домика остановился верховой.
– « Я могу чем-то помочь?» – вопросительно поглядывая на незнакомца, Пауль поднялся навстречу. Всадник спешился, но по-прежнему молчал, переминаясь с ноги на ногу. Заинтригованный Зонненберг подошёл поближе и оторопел…
В лучах заходящего солнца стоял он сам, – высокий, худощавый, и очень молодой…
– « Померещится, же, такое!» – подумалось Паулю. Он моргнул раз, другой, – но видение не только не исчезло, но и ко всему прочему обрело дар речи.
– « Чего? Чего?» – ошалело таращась на своё отражение, переспросил Зонненберг.
– « Я спрашиваю, – можно мне коня напоить!?» – весело скалясь, повторил юноша, и тряхнул рыжими локонами.
– « Пои!» – хрипло пробормотал Пауль, и вернулся на скамейку.
И пока рыжий поил коня, а потом и сам пил, Зонненберг исподволь разглядывал незнакомца. Разглядывал долго и основательно. Досадуя на самого себя, понимал, что опять обознался, и, что парень, едва ли, похож на него, а, возможно, и вообще не похож… Мало ли высоких, да рыжих он перевидал на своём веку!
– « Вам бы поторопиться!» – с плохо скрываемым раздражением, молвил Зонненберг, – « Дома то, небось, заждались!»
Парень поставил ведро на край сруба, улыбнулся, – две ямочки в уголках рта, но уезжать не спешил.
Зонненберг нетерпеливо заёрзал на скамейке.
– « Пожалуй, я вам компанию составлю», – заявил рыжий, решительно подсаживаясь к Паулю, – «Посидим, поговорим, – и вы не заскучаете, и мне интересно!»
– « Нагловатый стервец!» – беззлобно отметил Зонненберг, – « Нет, не похож!»
– « А, давайте, каждый, что-нибудь о себе поведает», – как ни в чём не бывало, продолжал парень, – «Вы о жене своей, о детишках. Ну и я в долгу не останусь…»
– « Неинтересная тема!» – перебил Зонненберг, отворачиваясь.
– « Как скажете!» – не сдавался рыжий, – « Тогда я вам такую историю выдам! Такую! Сказка, а не история!»
– « Валяй…», – обречённо отозвался Зонненберг, – « От тебя, видать, не отвяжешься…»
Парень признательно улыбнулся, устроился поудобнее, возвёл глаза в темнеющее небо, словно собираясь с мыслями, и наконец, тихо заговорил:
– « Когда то в небольшом селе жила семья; мать, отец, и дитя…» – рыжий коротко вздохнул, словно всхлипнул, – « Мальчонка совсем крохотный, месяца два, не больше…» – уточнил он.
– « Надо ли говорить, что отец семейства был солдат, и дома его видели крайне редко, – военная служба, понимаете?»
Зонненберг молча, кивнул.
– « Вот и он, – пришёл на побывку, жену приласкал, на сына нагляделся, и обратно в путь. Ушёл, и как в воду канул», – рыжий снова вздохнул, – « А потом в село похоронка пришла, убили его, значит…»
– « Видал я одну, такую похоронку!» – хмуро отозвался Зонненберг, – « Поторопились отписать, а солдат выжил, и всю жизнь её с собой проносил!»
– « Так радоваться надо!» – возразил парень.
– « Чему радоваться?!» – рассердился Зонненберг, – « Чья-то ошибка ему судьбу искалечила, семьи лишила! Не радость то, – горе горькое!»
Рыжий обиженно засопел, поёрзал на скамейке, не решаясь продолжить.
– « Ладно!» – примирительно буркнул Пауль, – « Давай уж, досказывай свою историю!»
– « Только и вы уже не перебивайте!» – заявил рыжий, окидывая Зонненберга испытующим взглядом.
Тот согласно покивал.
– « Значит, получила жена похоронку, избу заколотила, дитя на руки, и вон из деревни», – дальше рассказывал парень, – « Да и понятно, тягостно ей было, куда не шагнёт, на что не глянет, всё напоминает о нём, о любимом, – вот и отправилась, куда глаза глядят…»
– « А могла бы и обождать…» – буркнул Зонненберг, – « Мало ли, что…»
Рыжий с досадой покосился на собеседника, но смолчал.
– « Идёт она день, идёт два», – продолжал он повествование, – « Ночует, где придётся, да и припасы, что в дорогу с собой взяла, – закончились! А впереди, куда взор ни кинь, – луговина во всю ширь расстилается, да по краям её лес до самого горизонта, и не то, чтобы какой-нибудь деревеньки, даже самой захудалой отшельничьей лачуги, – нет, как нет! Хоть ложись прямо здесь и помирай!»
Зонненберг заинтересованно придвинулся поближе, с надеждой поглядывая на парня.
– « И вот тут!» – изрёк рыжий, переходя на загадочный шёпот, – « Перст судьбы! Из лесу верховой показался, лошадь у него запасная в поводу. Увидел женщину с дитём на руках, – и к ней! Она, понятное дело, испугалась и бежать! Но силы, то на исходе, – догнал он её, спешился. А женщина опустилась на траву, ребёнка к себе прижала, плачет, – думается ей, насильник это, поиздевается всласть, да и убьёт! Бежала от горькой судьбы, – да не убежала, всё одно, конец! А мужчина отвязывает от седла котомку, а там: молоко, цыпленок жареный, хлеб ещё свежий. Сам то, он подсаживается к ней, угощает, ласково заговаривает. О себе сообщает, – « Человек мол, я, порядочный, семейный. Состою на службе в замке. А выехал на поиски кормилицы, – супруга барона умерла при родах, а дитя осталось!»
– « Если за три часа не обернусь, и оно умрёт голодной смертью», – сетует мужчина, – « Едем со мной! Будешь кормить маленького барона, – будешь жить, как королева: сыта, одета, обута! И твоё дитя не обидим! Хозяин у нас, не в пример другим, – щедрый, да ласковый! Не пожалеешь, милая!»
Усадил мужчина кормилицу на лошадь, – и в обратный путь. Недолго ехали, – к сроку поспели. Глянула женщина на замок и оробела. В селе родилась, в селе росла, – выше собственной избы сроду ничего не видела. А тут такая махина! Сам барон ей навстречу спешит. Высокий, да стройный, локоны чёрные до плеч, красивый, – глаз не отвести!
Женщина шепчет своему проводнику, – « Жаль-то, какая, совсем молоденький, а уже вдовый!»
– « Нет, нет…,» – так же тихо отвечает ей мужчина, – « Это старший брат вдовца, он и есть хозяин замка. А младший в отъезде, и знать не знает, что овдовел. Вестового послали, – ждём!»
Ведут кормилицу в большую залу, – тут тебе и покойница лежит, тут тебе и младенец надрывается, прислуга бестолково носится, – в общем, ад!
Кормилица обернулась, своё дитя мужчине, что её привёз, – « Держи!», а сама новорожденного к груди приложила, и сразу тишина…
И все, кто в зале был на тот момент, замерли, не то, чтобы пошевелиться, – дышать опасаются!
А младенец насытился, да и заснул. Кормилица, укачивая, над ним уже какую то, бесхитростную мелодию выводит. Прислуга переглядывается, шёпотом толкует о божественном провидение, и о кормилице, – как о Деве Марии во плоти!
Красавец барон колено перед ней преклоняет, – « Спасительница, вы наша!» И все разом кивают, умиляются!
– « Ой, врёшь!» – неосторожно вторгается Зонненберг в финал рассказа, – « Где ж видано, чтобы барон перед крестьянкой колени гнул?!»
– « Правда моя!» – обиженно вспыхивает рыжий, – « Вы, сами то, много баронов видели, чтобы выводы делать?!»
– « Не много!» – огрызается Зонненберг, – « Вообще не видел! Некогда было!»
– « Вот, то-то, и оно!» – парень решительно поднимается со скамьи, – « Поеду я, полночь уже! Вам ворота пора запирать, да и меня дома заждались!»
Пауль недоуменно смотрит на рыжего, тот перехватывает его взгляд, усмехается.
– « Что ещё добавить?» – пожимает он плечами, – « Осталась женщина в замке, в покое и довольствие. Выкормила и своего, и сынишку барона. Да, только, через пять лет случился с ней сердечный приступ, – вот и сказке конец…»
– « Умерла?» – испуганно охнул Зонненберг.
Парень, молча, кивнул, и направился к коню.
– « А дети, дети, как же?» не унимался Пауль.
– « Дети выросли, выучились. Одеты, сыты», – отозвался рыжий, – « Что сын кормилицы, что молодой барон, – всё едино!»
– « Старый я дурак!» – вдруг с досадой молвил Зонненберг, поднимаясь во весь свой исполинский рост, – « Сижу! Слушаю! Уши развесил! И не чую кто передо мной! Нашёл тебя, – не отпущу!» – решительно заявил он, приближаясь к парню.
– « Некогда мне! Уезжаю!» – испугался рыжий, безуспешно пытаясь отвязать вороного…
– « Погоди!» – захрипел Зонненберг, намертво притискивая парня к лошадиному боку, – « Тебя ведь Зигфридом зовут, так!? По воле отца, – бесстрашным воином, златокудрым Зигфридом, так, я тебя спрашиваю!? А имя матери, – Марта!? Ну! Ну!»
Парня колотило как в лихорадке, губы его кривились, не отводя безумного взгляда от Зонненберга, он согласно закивал. Дрожащей рукой нашарил под рубахой самодельный крестик из самшита, снял, и протянул на ладони Паулю.
– « Этот крестик вырезал мой отец…,» – заикаясь, пролепетал рыжий, – « И точно, такой же, остался у него…»
Зонненберг усмехнулся, сдёрнул с шеи хлипкую верёвочку, и шагнул к парню.
– « Такой!?» – выдохнул он, и разжал ладонь.
– « Мой бог!» – вскрикнул Зигфрид, заливаясь слезами.
– « Я твой бог!» – глухо отвечал Зонненберг, прижимая сына к самому сердцу, —
– « Твой бог! И твой отец!».