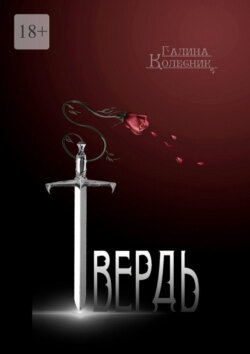Читать книгу Твердь. Альтернативный взгляд на историю средних веков - Галина Колесник - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ТАЙНЫ КВЕДЛИНА
Вторая глава
ОглавлениеА тем временем, в старом замке, на окраине уже упомянутого города, неизвестная болезнь отсчитывала последние часы жизни барона Гедерика. Ночной столик, придвинутый вплотную к широкой кровати, был тесно заставлен большими и маленькими пузырьками с микстурами и отварами, истощающими тоскливый, тошнотворный запах. Тут же валялись запечатанные, или уже вскрытые конверты с инструкциями, – и к ним порошки; надписанные неразборчиво, а иногда и по-латыни. Пучки высохших трав уже ничем не пахли, – кроме, как, мерзкой, чердачной пылью. Лекари сменяли друг друга, – а улучшения не наступало. И когда последний шарлатан покинул покои больного, унося золото и,…надежду, на пороге возник ещё один персонаж. Высокий, смуглолицый брюнет, с едва заметной сединой на висках, только- что вернулся из дальней поездки под сень «родового гнезда».
Эрвин фон Хепберн, – а это был именно он, приходился Гедерику старшим братом, и дядей, – юному Говарду.
«Да!», – философски заметил вошедший, насмешливым взглядом обводя захламлённую спальню, – «Какой неповторимый, рукотворный склеп! Не хватает только розмарина и мяты. А это,» – продолжал он, подходя к ночному столику, – «Вероятно, Багдадский Базар в миниатюре!?»
«Оставь свои шутки, для таких же мудрствующих глупцов, как ты сам», – поморщился Гедерик. «Твои словесные помои годятся разве, только для кухарки!»
«О!», – воскликнул с некоторой долей иронии Эрвин, поворачиваясь к брату, – «Гедерик! Ты научился говорить? Как некстати!»
«Действительно некстати!» – парировал «младший», – «Ибо, ты так и не научился слушать!»
Обмен «любезностями» состоялся, и Эрвин бесцеремонно сдвинув одеяло, сел на постель, и привычным движением наложил пальцы на пульс больного.
«Как Льеж?» – спросил Гедерик, чтобы хоть что-нибудь спросить, – «Надеюсь, твоя поездка была удачной?»
«Льеж на том же месте, где и был», – улыбаясь, отвечал «старший», – «А поездка была удачной. Мы с Альбертом прикупили трёх великолепных арабских скакунов на ярмарке!»
Гедерик навострил уши. «Арабские скакуны? В Льеже?» – с сомнением в голосе молвил он, – «Что за бред?»
«Бред?» – как- то очень медленно переспросил Эрвин. Тут, вдруг глаза его сверкнули, и он продолжал гневно и тихо, – «Бред, – это то, что я сейчас вижу на твоём ночном столике! Твои мнимые лекари, – „слепцы-недоучки“, неспособные отличить серьёзную болезнь от лёгкого недомогания, но, однако прозревающие при виде золота, – и это тоже бред!»
«Оратор!» – тоскливо перебил его больной, – «Неужели моё здоровье в столь плачевном состоянии?»
«Думаю, всё обойдётся!» – Эрвин ободряюще улыбнулся брату и поднялся, – «Я скоро вернусь!»
Гедерик нетерпеливо кивнул, и Эрвин не мешкая, направился к двери.
«А как же арабские скакуны!?» – язвительно крикнул ему вслед «младший».
Эрвин засмеялся, остановившись на пороге спальни и, хитро прищурившись на брата, заговорщески шепнул, – «Арабские скакуны? Их, как известно, привозят в Льеж сирийские конокрады из Латакии!»
«Знаток!» – насмешливо пробурчал себе под нос Гедерик, когда брат вышел, – «И как это тебя не угораздило родиться в конюшне!»
…………………………………………………………………………………………..
Эрвин прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Холод мёртвого камня нёс разлуку и смерть. Смерть и разлуку… Кто-то коснулся его плеча.
Альберт, которого за глаза, звали в замке «тенью Эрвина», мрачный, неразговорчивый Альберт, единственный и незаменимый, бесценный друг и помощник, – Альберт, как всегда был рядом.
«Плохо?» – тихо спросил он, вглядываясь в потемневшее лицо Эрвина, и тут же сам ответил, – «Вижу что плохо».
«Я опоздал», – глухо отозвался Эрвин, – «Даже то, что у меня есть, его уже не спасёт…»
И, устремив долгий взгляд в глубину не освещённого коридора, он прошептал с укором и болью, – «Говард! Где же ты, Говард!?»
…………………………………………………………………………………………..
Было далеко за полночь, когда Гедерик открыл глаза. Жарко полыхал в камине огонь, беспощадно загоняя в расщелины вековых стен промозглую сырость. Ночной столик был прибран, и на нём уже возлежал большой серебряный поднос, вдохновенно держащий в своих объятиях китайскую суповую чашу с бульоном, две других, поменьше, и румяный кусок свиного окорока, в прозрачных каплях жира. И, запечатав уста гордым молчанием, виднелся совсем неподалёку узкогорлый, изящный кувшин, напоминая своим причудливым станом окаменевший фонтан, погребённого в песках древнего Фарсейского Царства…
И, в довершение ко всему, рядом был Эрвин, и чуткие пальцы с прежним вниманием и средоточием лежали на запястье больного. Но какая-то отрешённость, какая-то странная неподвижность лица, не отражали присутствия его самого…
Гедерик недовольно шевельнул рукой, и Эрвин «вернулся». И снова замерцал, оживая в таинственной глубине его насмешливых глаз, юный, дерзкий огонёк.
Эрвин лукаво подмигнул брату, а затем кувшину. Гедерик с удивлением и опаской проследив за его взглядом, неуверенно пробормотал, – «Но Дитрих запретил…»
«А, Дитриха», – с некоторой ленцой в голосе заметил Эрвин, – «Я послал туда, где ему самое место! И мы сейчас», – продолжал он поднимаясь, и расправляя плечи, – «Будем пить Твоё Здоровье!»
«Как я понял», – отвечал, оживая, Гедерик, – «Ты предлагаешь мне кутить всю ночь!?»
И Эрвин, усмехнувшись, учтиво-вежливо поклонился.
«Мы будем пить», – медленно и весело говорил он, распечатывая горлышко кувшина, – «Старое, доброе, италийское вино с лучших виноградников Калабрии. И всё это мы выпьем и съедим», – торжественно продолжал Эрвин, обращаясь к бульону и окороку, – «И закончим пировать на Восходе Солнца!»
«Почему же именно на восходе?» – настороженно глядя в разгорячённое лицо брата, тихо спросил Гедерик.
Эрвин повернул голову к окну, и глаза его сверкнули гневно и радостно.
«Твой Сын будет здесь с рассветом!»
…………………………………………………………………………………………..
«Чудесное вино!» – отставляя чашу, благодушно молвил разомлевший Гедерик, – «Горячее, словно сердце, и страстное, как любовь моей Мины!» Воспоминание о юной жене, умершей при родах и оставившей вместо себя только боль и разлуку, разлуку и боль, и еще, ставшего вдруг совершенно ненужным ему, Гедерику, младенца. Воспоминание жило в нём все эти годы, – тягостным, болезненным страданием, но и оно, почему-то, сейчас раздражало Гедерика, как когда-то, много лет тому назад, раздражал, доводя его до отчаяния и безумной злобы, – беспокойный плач новорожденного сына…
«Чудесное вино», – задумчиво отозвался Эрвин, не обращая внимания на терзаемого памятной тоской Гедерика, – «Горячее, как кровь, и сладкое…», – молвил он тихо и нежно, – «Как поцелуй Любимой…»
Гедерик поднял на брата изумлённые глаза.
…………………………………………………………………………………………
Догорали в окне последние звёзды.
И отступала Ночь.
И ускользала Тайна…
И молчание, воцарившееся в спальне, стало долгим и тягостным…
«Где мой Сын?» – глухо и мрачно произнёс Гедерик, – «Или ты „пророк-лжец“?», – в бессильной ярости продолжал он, вглядываясь в Чужое лицо брата. И закончил тихо и презрительно, – «Лжец!»
И, словно опровергая эти слова, где-то очень близко, где-то тут внизу, под стенами спящего Замка, весело и коротко пропел рожок и, едва помедлив, повторил уже долго и протяжно.
«Говард!» – неуверенно-напряжённо выдохнул Гедерик. И мгновение спустя уже молил и негодовал, – потому, что внизу не открывали, и, негодуя, хотел бежать сам и не мог. И Эрвин, высунувшись из окна, страшно и яростно кричал сонному, хромому Клевину, спешащему к подъёмнику, – «Тварь глухая! Сукин сын! Выгоню ко всем чертям!»
Но подъёмник уже заработал, опуская на противоположный берег, разделённого водой рва, – широкий, дубовый мост.
Нетерпеливые вороные взлетели на него и, выбивая подковами дробь, стремительно внесли всадников в распахнутые ворота Замка.
…………………………………………………………………………………………..
Замок ещё спал. И земля, и воздух вокруг были тихи и покойны. Всадники спешились, в недоумении, и некоторой тревоге, оглядываясь по сторонам. И смятение зародилось в глазах, и заплескалась, заметалась растерянность! Да, да, – те самые, весьма неприятные чувства, что овладевают людьми, которых не ждут…
Но их ждали! И уже нарастал, и, нарастая, катился из самых глубин Замка, – живой, человеческий гул голосов!
И отворялись, распахивались, разлетались в пух и прах, – верхние и нижние, чердачные и парадные, зальные и гостиные, спальные и кухонные, дворницкие, и с чёрного входа, – Двери!
И уже первая, выбежавшая из этого, вмиг очумевшего дома, из жаркого кухонного чада, немолодая, толстая кухарка Мадлена, присыпанная мукой, как рождественская коврижка, голосила на весь двор, будя своим воплем ещё не проснувшихся, – «Вернулись! Вернулись! Наши мальчики вернулись!» И бежала им навстречу, тяжело переваливаясь, словно большая, сдобная, творожная ватрушка. И плача, и смеясь, уже обнимала и целовала Говарда и Зигфрида, и снова Говарда. И шептала на ушко ему, и только ему одному, что, – «Доннер Ветер! И Гром её разрази! – если не будет сегодня на сладкое её любимцу, такой же самый, черничный пирог, что двенадцать лет тому назад она пекла к его отъезду! И он тогда, – «Ну вспомни! Вспомни! Ах, проказник! Весь, перемазавшись черничным вареньем, бегал пугать её на кухню!»
И Говард смеялся, вспоминая.
А тем временем конюх Курт уже подходил к ним, – совсем, совсем седой, и, принимая лошадей, ворчал как всегда, больше для вида, что, – «Ну, наконец! Наконец-то! Ведь сколько уж можно по чужим-то, по краям! Заждались! Заждались!»
И всё шли и шли, торопливо поспешая, словно боясь опоздать, другие, – знакомые, и незнакомые, узнаваемые, и не очень.…И смеялись, и плакали, и дружески хлопали по плечу Зигфрида, и почтительно целовали руку у Говарда.
Заливались лаем борзые! Ржали встревоженные лошади! И носился, вереща по двору, ловко увёртываясь от истопника и кухаря Генриха, – мужа Мадлены, розовый упитанный поросёнок!
Но уже несли на кухонный двор вниз головами жирных, кведлинских кур, целое решето свежих яиц, в прилипших пёрышках пуха, и большой кувшин топлёного молока, и нежный, – розово-жёлтый творог в миске, и янтарный кусок только что сбитого масла, и целую кринку сметаны…
И Зигфрид, протестующее, громким, «умирающим» голосом жалобно кричал, обращаясь сразу ко всем, что, – «Если вдруг, сейчас мимо него пронесут, не приведи, Господи, – швабские колбаски, или рулет со шкварками, – то он за себя не отвечает!» Но Мадлена погрозила ему пальцем, и потребовала, чтобы он прекратил ныть, потому, что всё, «это», – привезли ещё вчера. И Зигфрид, молитвенно сложив на груди руки, возвёл к Небу почти благодарные глаза!
А, между тем, первая волна радости схлынула, и все взоры оборотились к распахнутому парадному, где уже неспешно и торжественно спускался с широких ступеней, высокий, смуглолицый брюнет, в чёрном с серебром, с благородной сединой на висках, и мятежными глазами цвета кипящей смолы. На два шага позади него шествовал и другой, – помоложе, и одетый попроще. Роста небольшого, коренастый и широкоплечий. И был он тоже волосом тёмен, и глазами горяч.
И люди, расступаясь, почтительно склоняли головы перед первым, и дружески, хотя и несколько настороженно, улыбались второму.
Неугомонный Зигфрид, толкнув в бок друга, тихо, но с некоторым восхищением в голосе молвил, – «Да это же дядя Эрвин! Каков, а?! И годы его не берут!»
Но Говард уже не слышал восторженных реплик Зигфрида. Затаив дыхание, он не сводил счастливых, блестящих глаз с подходящего к нему Эрвина.
И внезапно всё стихло. Лишь только было слышно позвякивание уздечек закрытых в конюшне лошадей. Как вдруг, в толпе прокатился изумлённый ропот, но Альберт гневно глянул через плечо, – и вмиг воцарилась тишина.
И тут только Говард с беспокойством отметил, что у него предательски дрожат колени, готовые в любой момент подломиться, и нехорошо шумит в голове, и давит, давит на виски, и что-то с глазами…
Эрвин увидел, как внезапно побледнел юный Хепберн и, метнувшись к племяннику, успел в последний момент, подхватив его, уже оседающего, в крепкие, мужские объятия. И подал глазами знак верному Альберту. И тот, повелительно закричал дворне и прислуге, – чтобы расходились.
Мадлена первая утащила на кухню голодного Зигфрида, пообещав ему по пути и швабские колбаски, и кусок яблочного струделя. Люди возвращались по своим местам. И снова стало тихо.
А Эрвин всё так же стоял посреди опустевшего двора, прижимая к своей широкой груди, приходящего в себя Говарда. По его лицу катились слёзы, а он ласково и нежно гладил дрожащей рукой, как когда- то, много лет тому назад, чёрные локоны Сына и,…Любимой.
А потом, слегка оттолкнул его, придерживая за плечи, чтобы ещё раз полюбоваться им и,…собой, – отразившись в нём, как в речном зеркале, и вдруг увидел, что и лицо племянника мокро от слёз.
«Идём же», – молвил тяжко Эрвин, – «Твой отец болен, и ждёт тебя…»
…………………………………………………………………………………………..
Гедерик, лёжа в своей постели, успел пережить, доносившийся со двора, словно из другого мира, и праздничный гомон голосов, приветствующих его сына, и, наступившую после всего, этого, – тишину.…А Говард всё не шёл.
И он, кипя от возмущения, уже было, протянул руку к висящему у его изголовья колокольчику, – как, вдруг, дверь распахнулась, метнулся огонь в камине, и ветер, пронёсшись по комнате, вскочил на подоконник, – и был таков!
Гедерик вздрогнул и обернулся.
Кто- то очень молодой, высокий и широкоплечий, с ликом Дельфийского божества, стремительно шагнул к его постели, и чёрная грива густых, непокорных волос взметнулась над высоким, алебастровым лбом!
«Отец», – тихо молвил юный бог, и преклонил колени…