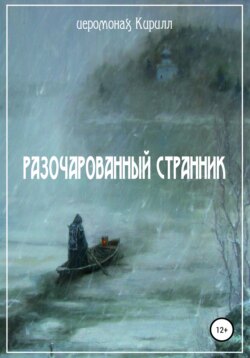Читать книгу Разочарованный странник - Иеромонах Кирилл - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Печоры. Первые встречи.
ОглавлениеГродно – очень красивый древний приграничный город западной Белоруссии с особенностями польско-литовской архитектуры. Это столица белорусского католицизма. И нам очень хотелось бы пройтись по городским улицам, но мы прошли только от автовокзала до вокзала железнодорожного и этим завершилось наше путешествие по гродненской земле.
Из Гродно нам нужно было как-то так уехать, чтобы поезд останавливался в Пскове. И оказалось, что как раз такой поезд скоро будет идти из Варшавы. Это было радостное известие, но затем последовала и другая новость – билетов на любимые боковые места не было. Собственно, и самого плацкартного вагона у варшавского поезда тоже не было. В кассе нам предложили двухместный люкс. Ну, что же, пусть будет люкс, ехать-то надо.
Купе оказалось просто шикарным и мы, как туристы из загнивающего капитализма, свободно раскинувшись на удобных мягких диванах, заказали себе кофею. Дима сходил в буфет, принёс сдобных булочек и две бутылки лимонада – очень хотелось пить. Всё было здо́рово, если бы ни следующее происшествие, могущее закончиться трагедией.
Лимонад, который принёс из буфета Дима, я пил прямо из горлышка бутылки, как в детстве. Тогда, бывало, летом мы бегали по двору и если кто-то находил пустую пивную бутылку, то сразу бежал в магазин, где эту бутылку принимали по 12 копеек. А можно было вместо денег взять бутылку с лимонадом, только газировку нужно выпить тут же в магазине, чтобы пустую бутылку сдать. И мы с мальчишками, как говорится, соображали на троих, потому что одному выпить целую бутылку лимонада было не под силу.
Я вышел в просторный тамбур и любуясь пробегающими белорусскими пейзажами допивал остатки лимонада из бутылки. Как вдруг мне под язык сбоку врезалось что-то жёсткое и острое. Мгновенно задержав дыхание и выплюнув лимонад изо рта, я наклонил голову и достал из-под языка тонкий лепесток стеклянного скола, похожий на чешуйку крупной рыбы, размером с копеечную монетку, как раз в размер горлышка бутылки. Глядя на этот острый как бритва осколок стекла, мне стало даже страшно подумать, что могло бы быть, если бы я вдруг нечаянно проглотил его здесь, в поезде, мчавшемся неизвестно где, посреди сумеречного леса. Но Бог миловал.
Во Псков поезд пришёл очень рано, часа в четыре утра. Проводник нашего вагона, мужчина лет сорока в сером фирменном костюме открыл дверь вагона и опуская лестницу говорит нам:
– Вон стоит Таллинский поезд из Москвы. Бегите скорее за билетами он как раз в Печорах останавливается, может успеете.
Мы что есть духу побежали в кассу вокзала. Кассирша тут же выдала нам билеты и заторопила:
– Скорее, может успеете ещё. Он что-то задерживается с отправлением, уже минут десять как должен уйти, а всё стоит.
Это было своего рода зна́мение.
Где-то через час поезд остановился на станции «Печоры Псковские», и мы пересели на местный рейсовый автобус, который быстро привёз нас на площадь этого небольшого городка. В Печорах у нас был один адресок, по которому нам рекомендовали обратиться к некоей рабе Божией Татьяне с запиской от наших общих друзей. В записке была просьба поселить нас к кому-нибудь и показать Псково-Печерский монастырь. Но так как время было раннее мы решили сразу пойти в монастырь, зная о том, что с шести часов утра в обители начинается первая литургия.
Оглядевшись, было понятно, что городок в основном состоит из домов частного сектора и что это старые эстонские постройки. Городскую площадь окружали многоквартирные трёх-пятиэтажные кирпичные дома 50-х годов, в нижних этажах которых располагались магазины типа сельпо. На площади, кроме нас, никого не было. И мы пошли к улице, где на угловом здании висела понравившаяся нам вывеска «Столовая». На указателе соседнего дома было написано «улица Мира», что добавило оптимизма, и мы прибавили шаг. Слева в конце этой улицы был виден возвышающийся Михайловский собор и мощные монастырские стены. Тут мы уже нисколько не сомневались, что идём в правильном направлении. Однако, вид Михайловского собора с монастырскими стенами на первый взгляд никак не предвещал того, что мы увидели, войдя через Святые ворота Петровской башни на территорию монастыря.
Пройдя по гранитной брусчатке через арку Святых ворот, нас встретил старый седой монах с метлой в руках. Поздоровавшись с ним и перекрестившись на Никольскую церковь, стоявшую тут же напротив, мы были поражены тем, что сам монастырь находился где-то внизу, в огромном овраге. В проходе под Никольским храмом на стенах за деревянными перилами были размещены большие иконы Божией Матери и первая из них – Споручница грешных.
Выйдя из-под Никольской церкви, перед нами открылся дивный вид на Успенскую соборную церковь обители, которая находилась где-то там, внизу, и над её куполами зеленели деревья. Вообще весь монастырь утопал в зелени, склоны холмов были покрыты зарослями густого кустарника и клёнов, у основания которых лежали большие камни, обросшие мхом. Вниз вела искусно уложенная каменной брусчаткой дорога, которую называли Корнилиевской дорожкой или Кровавым путём.
Как уже потом мы узнали, история обители повествует, что царь Иоанн Васильевич Грозный после учинённого «Новгородского погрома» в 1570 году, отправился в Псков, где по чьему-то навету был разгневан и на Псково-Печорского игумена Корнилия, заподозрив его в сговоре с князем Курбским. И когда игумен со священством вышел за ворота встречать царя, то Иван Грозный, в порыве гнева выхватил меч и обезглавил Корнилия. Но вспышка гнева быстро прошла, Иван Васильевич тут же раскаялся, взял обезглавленное тело игумена на руки и понёс его вниз в обитель по этой самой дороге, обагряя её кровью мученика. От того и спуск этот стал называться Кровавым путём, а игумен обители Корнилий был прославлен Церковью в лике святых, как преподобномученик и его святые мощи с тех пор почивают в Успенском соборе монастыря.
Спускаясь вниз по Корнилиевской дорожке, я всё более и более погружался в тишину древней обители. Особенно меня пленяло то, что монастырь никогда не закрывался с его основания в XV веке, и с тех пор монашеская жизнь в нём не прекращалась. Мне здесь сразу понравилось и как-то всё пришлось по душе само собой. Внизу у часовни пахло кислыми щами и дымком, так как рядом находилась трапезная, и этот запах только усилил впечатления. Напившись воды у колодца, мы поднялись по лестнице на Успенскую площадь, к храму. И тут я увидел звонницу с огромными колоколами. Такую конструкцию я видел впервые. Здесь раскачивался не язык колокола, а сам колокол за привязанный к деревянному коромыслу канат, свисающий почти до земли и заканчивающийся петлёй. Звонарь брался руками за канат, вставлял в петлю ногу и мерно раскачивал колокол. Но сейчас звона не было и канаты висели надетые петлями на пики металлической ограды. На башенные часы звонницы указывал рукой изображённый на стене ангел, напоминающий о скоротечности времени.
В Успенском соборе на литургии только что прочитали Евангелие. В полумраке пещерного храма, меня поразила необычность внутреннего пространства, простота пения народного хора, в котором в основном были женщины всех возрастов. И эта молитвенная простота пронизывала весь храм, и я не чувствовал себя каким-то гостем из Москвы. Для меня вдруг стали родными эти простые приветливые и открытые лица со светлым взглядом. И было как-то легко и радостно на душе – благодатно.
Стоя перед чудотворной иконой Успения Божией Матери, я всматривался в этот древний образ и думал о том, как было бы хорошо остаться здесь навсегда и ежедневно ощущать эту молитвенную благодать, видеть эти старинные намоленные веками иконы, слышать это простое пение. А ещё было бы здо́рово оказаться на послушании в мастерской иконописца отца Зинона там, на Святой горке, и постигать искусство иконописи под его руководством….
– Пошли. Нам нужно ещё найти эту Татьяну, – толкнул меня в бок Димка.
– Эх, отец… какую ещё Татьяну?.. А, ну да.
Мы подошли к раке с мощами преподобномученика Корнилия, сделали земной поклон и приложились к Печорскому игумену. В храме пропели «Отче наш» и мы отправились искать нужную нам улицу и дом, в котором живёт та самая Татьяна, которая представлялась мне этакой Пистимеей, замотанной во всё черное.
С погодой нам повезло. Утро было безоблачным и предвещало хороший тёплый день. Прозрачной свежестью воздуха я никак не мог надышаться. Всё время хотелось сделать глубокий-глубокий вдох во все лёгкие. Мы проходили мимо домов с садами и огородами и такой же должен быть тот, который нам нужен. И дом этот мы нашли быстро, обычный деревенский домишко со следами времени. Войдя во двор нас встретила хозяйка дома – Татьяна. На вид очень приветливая молодая девушка, наша ровесница.
– Здравствуйте! Вы Татьяна?
– Да. Вас кто-то ко мне прислал? – переспросила она, загадочно глядя на нас.
– Ну да, вот даже записку передали, вроде верительной грамоты.
Все засмеялись. Татьяна развернула записку.
– А! Так это Александр с Татьяной из Москвы. Они приезжают к отцу Адриану и были здесь недавно, где-то в начале лета. Я их давно знаю. Очень хорошие ребята, батюшкины чада. Заходите, – пригласила Татьяна не переставая говорить.
Мы поставили в сенях сумки, прошли в комнату и сели за стол. В комнате было просто и всё самое необходимое. Конечно, городскому жителю и уж тем более столичному гостю весь этот деревенский быт может показаться аскетичным с весьма непривычными бытовыми условиями. Но люди в этом городе живут, и какой-то другой жизни не представляют. Например, Татьяна переехала в Печоры лет семь назад вслед за своим духовным отцом, игуменом Адрианом. И таких, как она, здесь было много. Все они переехали из своих городов, чтобы жить рядом со своими духовниками и общаться со старцами, быть под их духовным присмотром. Ради этого некоторые даже продали свои квартиры в Москве и купили жильё здесь, в Печорах. Такова была сила духовного окормления печорских старцев.
За чаепитием Татьяна рассказывала нам о городе, о её жителях, о Псково-Печерском монастыре и его насельниках, и конечно же о старцах. За этот час сидя за столом мы узнали о монашеской жизни и о старцах столько, сколько не узнали бы в Москве за десять лет. Перед нами раскрывались картины современной истории монастыря: суровый нрав прежнего наместника, отца Гавриила; жизнь, подвиги и куролесы насельников; рассказы о старце отце Иоанне и о батюшке отце Адриане, духовным чадом которого была хозяйка этого дома. Наконец Татьяна спохватилась, что нас нужно у кого-то поселить на ночь, и отвела нас в дом к некой Екатерине, доброй пожилой женщине у которой уже были несколько жильцов, но и для нас у неё нашлось место.
Для нас с Дмитрием было всё обычно, но вскоре среди обычного мы стали замечать необычное. Так как отец Адриан, с самого своего приезда в Псково-Печерский монастырь в 1975 году, проводил «отчитки» бесноватых в Сретенском храме, то контингент приезжающих в Печоры людей состоял в основном из его «пациентов». Среди прочих жильцов именно такие стали нашими соседями в доме у Екатерины.
Ночь у меня была беспокойной. Со мной в комнате соседнюю койку занимал полноватый мужчина лет сорока пяти, похожий на сельского бухгалтера. Когда мы улеглись спать и погасили свет я уже начинал дремать, как вдруг этот мужчина вскочил, тяжело дыша, как будто его кто-то душит, схватил в темноте стоящую у кровати бутылку с водой и стал себя поливать, фыркая и умывая лицо. Как потом оказалось в бутылке была Крещенская вода. И так в течении всей ночи повторялось раза три. Он снова вскакивал, издавая испуганный звук, я тоже просыпался вместе с ним и уже боялся заснуть, потому как не знал, что можно ещё ожидать от этого явно болящего человека. И ещё сильно донимали блохи.
В это время в Псково-Печерском монастыре жил и трудился иконописец архимандрит Зинон. И к нему не мало приезжало художников, иконописцев жаждущих стать его учениками и получить урок иконописания или просто пообщаться с именитым мастером, возродившим технику древней живописи. И утром, сидя за столом я вдруг увидел, как с чердака высунулась чья-то нога, нащупывающая ступеньку приставной лестницы. Оттуда спустилась хрупкая девушка с утончёнными чертами лица, которая как раз и была почитательницей искусства отца Зинона, иконописцем из Москвы. Вначале мы были удивлены её сошествием с чердака, но пригласив к нам за стол, мы познакомились и сразу нашли общий язык. Как говорится «рыбак рыбака видит издалека». Но то, что Ирина – так звали девушку – спит на чердаке, конечно, нас удивило и мы подумали, что ей просто не хватило места. Оказывается, это не так. Ирина сама попросила хозяйку туда её поселить. Так она смиряла себя, ведя аскетический образ жизни, проводя на чердаке свободное время в уединённой молитве. Позже, уже в мастерской отца Зинона на Святой горке, когда мы поближе познакомились, я смотрел на её работы восхищаясь утончённостью мастерства. Она была настоящим иконописцем от Бога, и глядя на написанные ею иконы хотелось молиться, потому что они были воплощением молитвы.
На самом деле Ирина была архитектором, окончившая МАРХИ. Но потом в её жизни наступил момент, когда она стала пробовать себя в иконописи и это так перевернуло её сознание, что в итоге она сожгла свои архитектурные работы и стала иконописцем. И это так. Иконописцем наполовину быть нельзя. Нельзя уже жить обычной мiрской жизнью как все, нельзя жить без церкви, без поста и молитвы, и при этом писать иконы. И я понял это на живом примере этой худенькой, обладающей огромной духовной силой девушки. Воистину «сила Божия в немощи совершается» (2 Кор.)
Утром нас ожидала Татьяна для того, чтобы показать нам Богом зда́нные – то есть со́зданные Богом – пещеры, куда просто так пройти было невозможно. Но в монастыре её все хорошо знали, и она могла обратиться к любому из братии, чтобы те помогли пройти в пещеры, на Святую горку или незаметно проскочить в братский корпус к отцу Адриану. Она подошла к братскому корпусу и кому-то постучала в окно. Окно открылось и из него высунулась бородатая голова монаха, по всему видать тоже нашего ровесника.
– Отец Сергий, проведи нас, пожалуйста, с братьями из Москвы в пещеры. Ты нас только пропусти туда, а дальше мы сами и потом я прикрою дверь, – затараторила Татьяна.
Отец Сергий улыбнулся ровным рядом зубов:
– Ладно, идите на Успенскую площадь к пещерам, – ответил он. И мы пошли.
Пещеры называются Богом зда́нными потому, что они нерукотворные. Открыты они были в XIV веке. На склоне оврага, где сейчас находится Успенский собор и вход в пещеры, росли большие вековые дубы. И местный крестьянин решил срубить одно дерево на верху склона. Когда срубленное дерево падало, то увлекло за собой другое огромное дерево, корневище которого при падении открыло пещеры. Причём над пещерами оказалась надпись «Богом зда́нные пещеры». Кто ископал эти пещеры и сделал надпись – неизвестно.
Сразу при входе в Богом зда́нные пещеры стоят гробы со святыми мощами основателей обители и её первых подвижников: преподобных отцов Марка, Ионы, Лазаря прозорливого и преподобной матери Вассы. О каждом из них мы узнали много интересного, душеполезного и поучительного. Больше всего поразил рассказ о преподобной Вассе и произошедших чудесах с её гробом.
Первое чудо случилось, когда после смерти Вассы её гроб опустили в могилу, выкопанную в пещерах, в которой её похоронили. Но наутро преподобный Иона обнаружил гроб Вассы стоящим на поверхности земли. Тогда Иона снова совершил отпевание и опять закопал гроб. Но через день гроб Вассы оказался на поверхности могилы. Тогда была сделана в стене ниша и в неё установлен гроб со святыми мощами преподобной Вассы. Видимо с тех самых пор так и хоронят братию в Богом зданных пещерах не закапывая гробы в землю.
А второе чудо совершилось в конце XVI века в ходе русско-шведской войны, когда впервые был захвачен Псково-Печерский монастырь. Шведы сожгли и разграбили его, а многие из братии были убиты. Один из воинов хотел своей шпагой открыть крышку гроба преподобной Вассы, в поисках добычи, но из приоткрывшейся щели вырвался пламень огня и опалил воина. На следующий день монастырь был освобождён от захватчиков. Обгоревшую щель между нижней частью гроба и крышкой мы видели своими глазами и прикладываясь к этому месту ощутили необычайное благоухание, исходящее от святых мощей преподобной Вассы.
Конечно, это совсем не такие пещеры как в Киево-Печерской Лавре, по которым мы ходили буквально три дня назад. Особенно удивительно было то, что эти самые пещеры являлись действующим братским кладбищем, куда хоронят почившую братию по сей день. Причём гроб с усопшим после отпевания вносят в пещеры и ставят в отведённом месте рядом с остальными гробами. И самое странное это то, что запаха тления в пещере совсем не ощущается, хотя захоронений в пещерах очень много. Есть два больших братских кладбища. Одно из них совсем древнее в котором находятся захоронения чуть ли от основания и до 1700 года. Это кладбище уже «не действующее», то есть туда теперь больше никого не хоронят.
В стенах коридоров пещер так же много захоронений, находящихся в специально выкопанных нишах, куда ставился гроб, после чего нишу замуровывали и в этом месте устанавливали плиту с надписью, говорящей о том, кто здесь погребён с указанием дат рождения и смерти. Некоторые надгробия представляют собой керамические зеленоватые изразцы, которые называются керамидами. На этих керамидах можно прочитать и довольно известные фамилии Суворовых, Мстиславских, Пушкиных, Кутузовых, Мусоргских.
В конце одного из коридоров стоит большой деревянный крест старого потемневшего дерева и панихидный стол перед ним. Здесь служатся заупокойные панихиды. Конечно же каждый, кто попадает в пещеры обязательно хочет поклониться этому кресту и приложиться к нему. Видно, что уже не один раз была попытка отгрызть щепочку на память. Но это, конечно, не дозволительно и пресекается смотрителем пещер. Так если каждый начнёт откусывать по щепочке, то в скором времени от креста ничего не останется.
Здесь же слева от креста погребён известный Печорский старец иеросхимонах Симеон. В стене специально оставлено отверстие, в которое можно просунуть руку и прикоснуться к гробу старца, испрашивая его святых молитв.
В сторону от этой пещерной улицы ведёт другая, где устроен пещерный храм Воскресения Словущего. Службы здесь проходят редко. Но говорят, что отец Зинон со своими помощниками из иконописной раз в неделю спускается со Святой горки в этот храм по специальному проходу из Покровской церкви и служит здесь литургию.
На Святую горку в этот раз Татьяна нас не повела, потому что был канун праздника Преображения Господня, и никто из братии не провёл бы нас на горку, потому что все готовились к праздничному всенощному бдению. И мы тоже пошли готовиться, с обязательным посещением перед этим любопытного здания на улице Мира под вывеской «Столовая».
Вечером, идя на всенощное бдение, я наконец услышал этот мощный Печорский колокольный звон. Такого звона нет ни где во всём свете. Это и призыв к молитве, и сама молитва, летящая сразу к Богу. И в этом звоне была вся самобытность и уникальность Псково-Печерского монастыря.
Всенощная началась в Михайловском соборе. Собралось очень много народу, торжественно пел хор, и мы с Димкой, стоя в конце храма, ощущали какую-то неземную радость. Стоявший рядом со мной старенький монах ни с того, ни с сего повернулся ко мне и говорит:
– Если хочешь, чтобы борода выросла нормальная, то вот это всё сбрей, – показал он на мою жиденькую поросль.
Начался полиелей, священство вышло на середину храма. Остальная братия, в основном схимники, престарелые монахи и молодые послушники, вереницей потянулась вдоль стены, прикладываясь ко всем иконам и мощевикам на пути к елеопомазанию. Мы с Димкой пристроились к ним так же прикладываясь ко всей святыне. И тут я увидел ковчег с десницей мученицы Татьяны. «Ну, так ведь сам Бог велел жить и приезжать в Печоры всем Татьянам со всех концов Советского Союза и его окрестностей!», подумал я. И тут уже я оказался у праздничной иконы Преображения Господня в центре храма, приложился к ней и подошёл к наместнику монастыря под помазание.
Утром мы с Димой отправились в Успенскую церковь на раннюю литургию. Первым делом мы протолкнулись к чудотворной иконе Успения Божией Матери. Приложившись к древнему образу Покровительницы Псково-Печерской обители, я спустился с каменных ступеней перед иконой вниз. Вдруг народ оживился, засуетился, стал оглядываться и из прохода между стен храма в окружении прихожан появился небольшого роста седой старец, благословляя всех вокруг себя с детской улыбкой. Это был игумен Адриан, вернувшийся из лечебного отпуска.
Татьяна схватила меня за рукав и потащила поближе со словами: «Это отец Адриан, он сегодня утром вернулся к празднику Преображения из отпуска». Она вынырнула перед отцом Адрианом уже у самой иконы Успения Божией Матери, к которой шёл старец, чтобы поклониться Ей.
– Батюшка, благословите! – протянула сложенные ладони Татьяна.
– А, Татьяна. Бог благословит.
– Батюшка благословите вот этих братьев, приехавших из Москвы, – продолжала она.
Я тоже попросил благословить меня и сложил руки под благословение.
– Ну, Бог благословит, – сказал старец, пронзая меня взглядом и осеняя крестным зна́мением.
Наклонившись к благословляющей руке старца, я приложился к ней, а когда выпрямился, то чуть было не упал от внезапного головокружения, потеряв ориентацию в пространстве. Но потом я сразу ощутил лёгкость и ясность, как будто меня только что прополоскали внутри и промыли глаза. Отойдя в сторону от толпящихся возле старца людей, я всё ещё приходил в себя. И в глубине моего сознания промелькнуло: «Вот это сила…»
На Святой горке в этот раз нам так и не довелось побывать. Ну, не всё сразу. Зато теперь есть причина приехать в Печоры ещё раз. К тому же у меня появилось большое желание встретиться со старцем игуменом Адрианом, задать ему важные вопросы. И ещё очень хотелось пообщаться с иконописцем отцом Зиноном.
А пока нам нужно было собираться в обратный путь, домой. На этом наше путешествие закончилось и в три часа дня из Печор на автобусе мы поедем в Псков, чтобы там пересесть на поезд до Москвы.