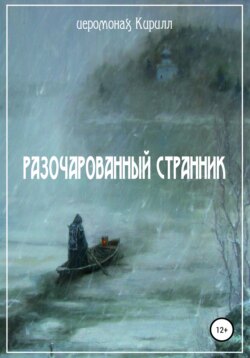Читать книгу Разочарованный странник - Иеромонах Кирилл - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Песчанская икона.
ОглавлениеПосле Пасхи, когда совсем потеплело и на деревьях распустилась листва, я снова поехал в Троице-Сергиеву Лавру. На этот раз мне очень нужно было решить некоторые накопившиеся проблемы личного характера, а для этого необходим был совет с рассуждением какого-нибудь духоносного старца.
О старцах и о их молитвенном подвиге я узнал из «самиздатовских» книг, которые неведомо откуда появлялись в кругу верующих друзей и передавались из рук в руки на несколько дней для прочтения, и тут же по очереди переходили к следующему. В основном это были вручную перепечатанные на пишущей машинке тексты, сшитые в книжный блок.
Так мне принесли почитать машинописный текст «Бесед преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым о цели христианской жизни», который я тут же за один день переписал шариковой ручкой в тетрадь. Потом принесли так же отпечатанную книгу «Отец Арсений». Переписывать эту книгу было уже слишком долго, так как она довольно ёмкая и я решил во что бы то ни стало сделать для себя ксерокопию. Почему не сделал так с беседами Мотовилова? Да потому что это совсем не простое дело и даже не безопасное. Множительная техника была редкостью и в той организации, где она была установлена, ею заведовал особый Первый отдел этой организации (думаю нет надобности объяснять, что такое Первый отдел). Для того, чтобы сделать ксерокопию, нужно было заполнить специальную заявку с указанием наименования документа, из какого он отдела поступил и какое количество копий. С подписанной в Первом отделе заявкой уже можно было идти в кабинет, где делают ксерокопии. Сразу за дверью этого кабинета есть только стена с окошком как в кассе, куда подавалась эта заявка вместе с оригиналом документа для копирования. Из окошка скажут, когда нужно зайти за готовыми копиями и посетитель удалялся с миром в ожидании готовности заказа. Но, к счастью, у меня оказался приятель, у которого в организации всё это было не так строго, без всяких там "первых отделов" и он мог запросто отксерокопировать книгу по 10 копеек за лист. Так у меня появилась собственная книга «Отец Арсений», для которой я старательно сделал кожаный переплёт и хранил её, как зеницу ока.
Поговаривали, что отец Арсений ни кто иной как иеромонах Павел (Троицкий), который тайно живёт где-то в Москве и общается только письменно, через одного доверенного человека. Причём духовными чадами отца Павла называли священников Николо-Кузнецкого храма: протоиерея Владимира Воробьёва, иерея Александра Салтыкова, дьякона Валентина Асмуса. И мы подозревали, что именно они-то и написали эту книгу.
На одной из прогулок с Сергеем Васильевичем по Гоголевскому бульвару я с юношеским восторгом рассказывал ему об отце Арсении, который оказывается на самом деле вроде как иеромонах Павел, который скрытно живёт в Москве на квартире у кого-то из своих духовных чад. Сергей Васильевич спокойно шёл по аллее, сложив за спиной руки, и молча улыбался в бороду. Потом, дослушав меня, он сказал:
– Москва – это самая настоящая пустыня. Здесь можно пропа́сть, исчезнуть так, что никто никогда тебя не сыщет; жить и молиться в своей комнате, как настоящий пустынник в келье.
И вот однажды я поинтересовался у Сергея Васильевича, к кому же он сам обращается за духовными советами и наставлениями, к какому старцу, кто его духовни́к? На что он ответил с улыбкой:
– Да я хожу к одному «дедушке», который сидит у себя дома и никуда не выходит.
И в мою голову закралось подозрение: а не отец ли Павел тот самый «дедушка», к которому он ходит…
В этих разговорах о старцах мне и поведали друзья-прихожане храма святителя Николая в Кузнецах о том, что в Троице-Сергиевой Лавре живут настоящие старцы архимандрит Кирилл (Павлов) и архимандрит Наум (Байбородин). А потом кто-то из недавно побывавших в Псково-Печерском монастыре рассказал нам об удивительных старцах этой обители архимандрите Иоанне (Крестьянкине) и игумене Адриане (Кирсанове). Об отце Адриане вообще говорили какие-то нереальные и умом непостижимые вещи – об «отчитке» бесноватых. Нам даже слушать это было жутко, а уж тем более быть там и видеть это своими глазами. И мы с восторгом смотрели на рассказчика, как на героя.
И вот я решил поехать в Лавру к старцам за советом, а заодно прихватил и написанную мной икону Божией Матери, которую Великим Постом я привозил показывать лаврскому иконописцу архимандриту Николаю.
Добраться до Ярославского вокзала к первой электричке, которая отправлялась в четыре часа утра, можно было только на такси. Так я и сделал, потому что хотел приехать в Загорск пораньше, чтобы успеть в Лавру на братский молебен у раки с мощами преподобного Сергия в Троицком соборе. И потом: по рассказам тех, кто был в Лавре на приёме у старцев, народу к ним приезжает тьма тьмущая со всех концов нашей необъятной Родины и нужно пораньше занимать очередь иначе уедешь домой ни с чем.
После молебна я отправился через проходную на монастырскую территорию туда, где жила братия монастыря, чтобы пройти к галерее подклети Трапезного храма. Там с одной стороны народ принимал отец Кирилл, а с другой – отец Наум. Под галереей собралось много народу и там приятно пахло свежими просфорами. Сначала я пошёл туда, где принимал отец Кирилл. Но увидев огромное количество людей, всё же решил пойти к отцу Науму. Там народа было не меньше, но если к отцу Кириллу нужно было по очереди входить к нему в специально отведённую келью для приёма, то отец Наум выходил из такой своей кельи на улицу, садился на стул перед собравшимся народом, и тут же начинал беседы и исповедь – кто с чем пришёл.
Войдя под галерею, я спросил у стоящих там людей:
– Скажите, а кто последний к отцу Науму?
– А тут нет очереди, батюшка сам подзывает того, кого он считает нужным, – ответили мне.
После прочитанных о старцах книгах, я с замиранием сердца смотрел на живого старца, который вот тут, совсем рядом передо мной сидит на стуле. И я подошёл ещё ближе, чтобы слышать то, что отец Наум говорит, потому что иногда он, выслушав кого-нибудь, вдруг громко рассказывал что-то для всех.
– Так, ну, что там у тебя? Иди сюда, – приглашал он кого-нибудь из стоящих здесь. И тот, не веря своим ушам, быстро подходил, подавал отцу Науму записку и становился перед ним на колени. Старец читал записку – видать с грехами – затем накрывал епитрахилью, прочитывал разрешительную молитву и благословлял. Потом подзывал следующего.
Читая записку одной женщины, стоявшей перед ним, отец Наум вдруг спрашивает, обращаясь ко всем:
– Так, кто ещё делал аборты? Подходите ко мне.
И почти все присутствовавшие здесь женщины столпились возле него.
– Сейчас я прочитаю над вами особые разрешительные молитвы, а вы все внимательно слушайте и со слезами кайтесь в содеянном вами страшном грехе, – сказал он и взял требник, вставая со стула. Все подошедшие наклонили свои головы. Было такое ощущение, что здесь собралась семья, у которой ни от кого нет секретов. И никто нисколько не стеснялся открывать свои недуги перед всеми. А старец по-отечески врачевал эти душевные недуги.
Прочитав молитвы, отец Наум снова стал подзывать к себе людей, которые подходили к нему, подавали свои записки с грехами и становились на колени перед сидящим на стуле батюшкой.
Рядом с ним стояла молодая женщина с уныло-смиренным видом и постоянно всхлипывала. Но почему-то батюшка не обращал на неё никакого внимания. Мне это показалось странным: почему он подзывает тех, кто стоит чуть ли в самом конце галереи, а эту несчастную игнорирует? Но вот, словно настал конец его терпению, и он обратился к ней:
– Ну, давай уже, рассказывай, что там ещё у тебя случилось?
– Ох, батюшка, – запричитала заунывно женщина, – я такая несчастная. Дома на меня внимания не обращают, никто мне не помогает – я всё одна. И дети не принимают, везде меня гонят. Но я смиряюсь. А я больная и немощная. Как же мне дальше жить-то? Всё у меня отобрали и квартиру отписали…
Во всё это время отец Наум, не отрываясь читал какое-то письмо или записку. Потом всё так же не отрываясь от чтения он и говорит ей:
– Так ты же дура. Ты же сама всё это и устроила.
Женщина осеклась на полу слове, как будто кто-то внезапно рукой закрыл ей рот, изменилась в лице, да как набросилась на старца, чуть ли ни с кулаками:
– Что?! Это я-то дура? Ах ты старый пень бородатый! Я – дура! Да ты на себя посмотри. Сидит тут голову морочит людям своими байками. Рассказывает им тут ла-ла, ла-ла! Они и развесили уши, а я получаюсь дура!..
Батюшка невозмутимо продолжал читать записку, никак не реагируя на происходящее. Видимо не вперво́й она давала ему этот концерт. Но я был потрясён этой сценой и стоял ошарашенный, не зная как на всё это реагировать. Двое мужчин, из стоявших тут же, подошли, взяли женщину под руки и увели к выходу.
Откуда ни возьмись появилась старушка с сумками и мешками, и подала старцу свёрток.
– А, это что? – спросил он.
– Да это, батюшка, чай очень хороший – травяной сбор.
– Вон ему больше нужен, – указал старец на священника сельского вида, во всё время стоявшего рядом с открытым ртом от изумления, держа в руках старый потёртый саквояж.
Батюшка взял свёрток и подал тому священнику:
– На, забери, чай будешь пить, от кашля помогает.
Тот как стоял неподвижно, так и оставался стоять. Не отводя взгляда от старца и не шевелясь, он только раскрыл свой саквояж, и отец Наум бросил в него свёрток. Саквояж закрылся.
– А ты всё ещё куришь?! – обратился он к худощавому мужичку.
– Да, батюшка, никак не брошу.
– А ну ко давай сюда свои папиросы.
Бедолага достал из кармана пачку «Примы» и подаёт её старцу.
– Вон, отдай ему, – показал он опять на того священника с саквояжем.
И обратившись к священнику добавил:
– Табаком дома посыплешь и моли не будет.
Священник всё так же молча открыл саквояж и когда пачка сигарет оказалась внутри, захлопнул саквояж и замер в ожидании, когда ещё что-нибудь прилетит.
– А ты, – продолжал он говорить курильщику, – поезжай в Малинники и выпей три литра воды из источника. Да-да, набери в трёхлитровую банку воды и пей потихоньку.
– Вот многие из вас скептики потому и не получается у вас ничего, – продолжал он и вдруг обратился ко мне:
– Скажи им, кто такие скептики.
От неожиданного вопроса я как-то замешкался и спутанно ответил:
– Ну, это те, которые не верят в промысел Божий.
– Да? Ну, можно и так, – заключил отец Наум.
– А ты сам-то с чем пришел, давай рассказывай, – обратился он ко мне.
Сначала я рассказал старцу о своей личной житейской проблеме, которую он на удивление решил просто, объяснив мне всё по порядку. Ну, а потом я, конечно, показал ему написанную мной икону Божией Матери. Батюшка взял икону, посмотрел внимательно, да и говорит:
– А чего это у Неё глазки такие ма-а-ленькие. Нужно чтобы они были во какие! – и он показал рукой, растопырив большой и указательный пальцы.
– У нас в ЦАКе (церковно-археологический кабинет) есть икона Божией Матери Песчанская. Она была обретена святителем Иоасафом Белгородским в городе Изюм. Там эта икона служила какой-то загородкой в притворе храма и стояла вся в грязи. А он взял икону и велел поставить её в храме на самом видном месте. Вот возьми и напиши такую же. На этой иконе глаза во какие! – и старец снова показал пальцами.
– Иди ко сюда, – отец Наум подозвал небольшого роста, плотного с огромной бородой, но молодого священника лет тридцати пяти.
– Пойди проводи его в ЦАК и покажи Песчанскую икону. Зайди к швеям, возьми у них кальку и пусть он приложит эту кальку к иконе и обведёт её.
Этим священником был протоиерей Олег Чайкин, настоятель Вознесенского собора в Ржеве, который был духовным чадом архимандрита Наума. С ним мы отправились в здание Духовной академии, в котором находился Церковно-археологический кабинет.
Войдя в здание академии отец Олег попросил дежурного найти семинариста, заведующего этим кабинетом. На самом деле это не просто кабинет в обычном понимании, а музей различных церковных предметов старины. Музей занимал помещения Царских чертогов в верхней части здания академии и основную часть фонда составляла личная коллекция патриарха Алексея I (Симанского). Вскоре подошел семинарист с ключами от кабинета, отец Олег стал с ним о чём-то говорить и видно было, что они хорошо знакомы. И не удивительно, потому что сам отец Олег ещё недавно был студентом этого Духовного учебного заведения.
Поднявшись на второй этаж, семинарист открыл дверь музея, и мы пошли по залам искать Песчанскую икону Божией Матери, так как и сам смотритель ЦАКа не вполне представлял себе, где она может быть. Пройдя несколько залов и не найдя икону, мы вошли как бы в широкий коридор между залами, где возле окна стоял чёрный рояль, а на противоположной стене висели большие иконы, среди которых была и Песчанская.
Икона оказалась достаточно большой, не меньше метра в высоту и глаза были действительно «во какие». Мы подошли к ней, перекрестились и приложились. После короткого совещания отец Олег с семинаристом аккуратно сняли икону со стены и положили её на рояль. Быстро закрепив на иконе кальку, принесённую из швейной мастерской, я стал тщательно обводить карандашом контуры образа Божией Матери. Через некоторое время калька была готова, и мы вернули икону на свое место.
Ещё раз с благоговением приложившись к Песчанской иконе, я поблагодарил отца Олега и смотрителя церковно-археологического кабинета за помощь, и отправился домой. Вместе с просфорами в моей сумке лежала в несколько раз сложенная калька с прорисью Песчанской иконы Божией Матери.
Зачем мне всё это было нужно станет известно гораздо позже.
А к отцу Олегу Чайкину, после этого знакомства, я ещё несколько раз приезжал в Ржев погостить, подкрасить кое-какие иконы, позвонить в колокола и искупаться в Волге, протекающей под обрывистым берегом, на котором стоит Вознесенский собор.