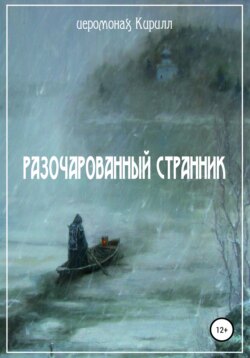Читать книгу Разочарованный странник - Иеромонах Кирилл - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Призывающая благодать.
ОглавлениеСобираясь будничным утром на работу и спокойно помешивая ложечкой кофе в чашке, почему-то каждый советский человек был уверен в обыденности наступающего дня, который ничего особенного не предвещал, так как всё шло по привычному плану. Вот сейчас, как всегда, ты выйдешь из подъезда, пройдёшь по тротуару вдоль домов знакомым маршрутом, спустишься в метро, сядешь в вагон, переполненный трудящимся народом и вместе с ним отправишься строить светлое будущее.
На календаре было 4 ноября 1987 года, среда. В то время я жил в новом районе Москвы возле станции метро "Беляево" в длиннющем шестнадцатиэтажном доме с четырёхзначным номером квартиры, переехав с «Бауманской» по родственному обмену. Чтобы попасть в организацию, где я работал мне нужно было на метро доехать до станции «Площадь Ногина» (ныне «Китай-город»). Это прямая ветка метро, как сегодня сказали бы «оранжевая ветка», которая позволяла забыться на двадцать минут с журналом или книгой в руках. И прислонившись к противоположной двери вагона, я достал небольшую книжку, обёрнутую в газету, нашёл нужную страницу и углубился в чтение. Книгу мне дал почитать мой хороший друг Сергей Васильевич Пеньков – замечательный музыкант, гитарист-классик, преподаватель музыкальной школы и глубоко верующий убелённый сединой человек. Это были очерки князя Е.Н.Трубецкого «Умозрение в красках» Парижского издательства YMCA-Press (издательство это мы называли «белогвардейским»). Поэтому читать такую книжку в метро без обложки не рекомендовалось. Но уже подъезжая к станции "Профсоюзная" сквозь «умозрение» я вдруг почувствовал неприятный запах горящей электропроводки. Пассажиры вагона насторожились, я закрыл книгу и тоже стал вглядываться в окна вагона. Вестибюль станции был как в тумане от едкого дыма.
– Поезд дальше не пойдёт. Просьба освободить вагоны, – прозвучало объявление машиниста поезда.
Нас попросили соблюдать спокойствие, выходить на улицу и дальше добираться наземным транспортом. Все заспешили к выходу. Дежурные по станции руководили эвакуацией из метро. Благодаря тому, что станция «Профсоюзная» мелкого заложения и для входа и выхода имеет широкую лестницу вместо эскалаторов, пассажиры довольно быстро вышли на одноимённую улицу.
Выбравшись из метро на поверхность и сделав глоток свежего воздуха, я вместе со всеми направился к автобусной остановке, которая была тут же рядом. Толпа опаздывающих на работу людей внесла меня в первый подошедший автобус. Вначале автобус ехал прямо по Профсоюзной улице. Но потом он свернул в переулок направо, сделал крюк и через некоторое время оказался у станции метро "Тульская", где была его конечная остановка. Я вышел из автобуса и стал прикидывать, каким маршрутом двигаться дальше. И тут я увидел вдалеке купола церквей и высокую белокаменную стену. Это был Данилов монастырь, только что возвращенный Церкви. И меня как магнитом потянуло посмотреть на обитель, в которой я ни разу не был, но о которой много слышал, позабыв о том, что день сегодня обычный и я, собственно, через пол часа должен быть на рабочем месте. А работал я в одной из организаций Минэнерго СССР в самом центре Москвы на улице Куйбышева (Ильинка) и занимался художественно-оформительской работой, изображая объявления, сообщающие сотрудникам о грядущем партсобрании, и оформляя доски почёта с фотографиями орденоносных героев труда.
Вечером я учился на пятом курсе Московского Высшего художественно-промышленного училища им. С.Г.Строганова (в простонародье Строгановка) и преподаватель по истории искусства, Анна Борисовна Матвеева, могла, например, спросить: «А Вы были в Даниловом монастыре?». Однажды ведь она уже спросила во время зачёта о том, был ли я в Киевской Софии. А я не был! Так она чуть было не лишилась рассудка от такого ужаса: «Как!!! Вы не были в Киевской Софии???» Следовательно, как свободный художник и студент я ведь мог и немного задержаться, чтобы пополнить знания по истории искусства, осмотрев архитектурный комплекс Данилова монастыря. Уговорив себя таким образом, я отправился в Данилов монастырь.
Вдоль дороги и трамвайных путей возле самой стены ко входу в монастырь вела грунтовая тропинка, кое где проложенная втоптанными в грязь досками. Пробравшись на территорию монастыря, я огляделся и направился в самый большой храм – Троицкий собор. Народу было много, шла божественная литургия. Мощные столпы храма были в строительных лесах (их расписывали), но торжественность богослужения и монастырский дух это нисколько не умаляло. Не передать словами с каким интересом я рассматривал ход восстановительных работ внутри церкви, эти леса с банками краски, начатые фигуры с изображением святых. И… мужчины стоят справа, а женщины на левой стороне храма – как положено.
Однажды мне довелось побывать в церкви во время реставрационных работ. Это было в Новгороде в середине 80-х, когда, будучи в экскурсионной поездке и прогуливаясь с альбомом по городу, в поисках натуры для рисования, я подошел к церкви XIV века Федора Стратилата на Ручью. Дверь была приоткрыта, и я вошел внутрь. Там шли реставрационные работы и всё пространство храма было в строительных лесах (комплексная реставрация 1972-1991 г.г.) Ко мне подошёл приветливый парень в рабочем комбинезоне и узнав, что я художник из Москвы пригласил подняться по лесам на верх, под купол. Мы стали медленно подниматься по металлическим лестницам с одного уровня лесов на другой. По пути лицом к лицу я рассматривал древние фрески на стенах и казалось, что я поднимаюсь в какие-то небесные горние селения в сопровождении ангелов и святых, провожающих моё восхождение своим взглядом. Рабочий всё время оборачивался и спрашивал с улыбкой: «Не страшно?» Так мы поднялись на круглую деревянную площадку в барабане купола. На меня в упор смотрел лик Спасителя. Я протянул руку и прикоснулся к нему. Наверное, именно тогда и Он коснулся моего сердца…
Здесь, в Троицком соборе Данилова монастыря, тоже шли восстановительные работы, но в отличие от новгородской церкви храм был живой и тёплый – в нём шли богослужения. И от всего этого веяло радостью новой жизни возрождающейся обители.
Пройдя внутрь храма, ближе к свечному ящику, я увидел на столпе слева от входа большую икону Казанской Божией Матери в киоте, день памяти которой и отмечала сегодня Святая Церковь. Не помню, о чём я тогда думал и просил, стоя у иконы и всматриваясь в лик Пресвятой Богородицы. Но что-то внутри меня произошло и приложившись к образу, я подошёл к свечному ящику и купил самую дорогую большую свечу за 3 рубля – всё что у меня было в кармане (тогда проезд в метро стоил 5 копеек, буханка хлеба – 14 копеек, пакет молока – 32 копейки, 200 г. масла – 70 копеек).
Весь подсвечник перед Казанской иконой Божией Матери был заставлен свечами. Стоявшая рядом бабушка сняла одну свечку и указала мне на освободившееся место, шепнув своей соседке, как бы оправдываясь:
– У него видишь какая большая свеча.
После «Отче наш» из дьяконской алтарной двери вышел монах и, проходя мимо меня, спросил: «Поможешь в просфорне?». Так я познакомился с ризничим монастыря игуменом Серафимом (Шлыковым). На работу в этот день я пришёл только к обеду.
После этого случая и знакомства с игуменом Серафимом я стал часто приходить в Данилов монастырь. Мне нравился созидательный дух этой обители. Особенно мне нравились монастырские богослужения и вот это нечто необъяснимое, монашеское. Ведь до той поры монашеская жизнь была в отдалении от Москвы, в Троице-Сергиевой Лавре, а тут – вот она, рядом. И меня тянуло в Данилов монастырь какой-то необъяснимой силой, которая выдавала себя за моё собственное произволение.
Но больше всего я любил молиться в небольшой Покровской церкви. Потом уже я узнал, что иконостас в этой церкви, изначально изготавливался для храма преподобномученика Корнилия в Псково-Печерском монастыре, иконы для которого написал уже известный тогда иконописец игумен Зинон (Теодор). Для скорейшего возобновления богослужений решено было отправить этот иконостас в Москву для Покровской церкви Данилова монастыря, а в Корнилиевский храм написать новый.
Но самым привлекательным для меня было то, что в галерее второго этажа Покровской церкви, где сейчас расположен храм Святых отцов Семи Вселенских соборов, находится иконописная мастерская. Для меня это было сакральным местом, куда как мне казалось допускались только избранные почти что святые люди. Хотя бы заглянуть туда было моей заветной мечтой. И я решил воспользоваться знакомством с ризничим монастыря отцом Серафимом, который познакомил меня с руководителем иконописной мастерской иеромонахом Ипатием.
И вот я впервые переступил порог иконописной мастерской. Тогда, в советское время, когда велась непримиримая борьба с Церковью, оказаться в иконописной мастерской было нечто из разряда фантастики. В мастерской пахло воском, вином и ещё чем-то вкусным. И тут я понял почему так же пахнет в Покровском храме, где к этому запаху прибавлялся ещё и аромат тёплых просфор – просфорня была тут же за стеной. Этот аромат потом долго меня преследовал и вновь ощутить его мне пришлось уже спустя годы в мастерской отца Зинона в Псково-Печерском монастыре, где уже за стеной моей кельи находилась просфорня.
В иконописной сидя за столами работали девушки. Кругом были разложены прориси ликов святых, эскизы к иконам. На столах стояли чашечки с красками и стопки кистей. Конечно, с первого раза меня смутило присутствие женщин в мужском монастыре. В иконописной мастерской я ожидал увидеть монахов, этаких Андреев Рублёвых из одноимённого фильма А. Тарковского. А тут вдруг девушки. Да, уже тогда современная иконопись начинала приобретать женское лицо. И сегодня едва ли встретишь в иконописной школе или мастерской бородатого иконописца. Всё платочки да юбочки. От того и икона сегодня стала «женской».
Отец Ипатий попросил одну из пишущих икону девушек показать и рассказать мне начальные основы иконописи на примере своей работы. Тут я узнал доселе незнакомые мне слова «санкирь», «плавь» и «вохрение», «пробела» и «движки» и т.д. Она рассказала мне, как готовят краски и эмульсию из яичного желтка и вина. Я стоял неподвижно возле стола, наблюдая за работой, и слушал рассказ о совершенно незнакомой мне технике живописи, погружаясь в какие-то древние времена Святой Руси. Это был совсем другой мир, совсем иное изобразительное искусство, это было миросозерцание, умозрение в красках, по слову князя Е.Н.Трубецкого. И я это остро почувствовал всем своим существом. Из мастерской я вышел другим человеком. Нет, я был всё ещё тот же, обычный московский парень, но с началом переосмысления земного и небесного.
Конечно, не может быть верующего художника, который ходил бы в церковь, исповедовался и причащался святых Христовых Таин, и который хотя бы раз в жизни не попробовал бы написать икону. Так не бывает. Рано или поздно он всё равно
напишет свою первую икону. Это произошло и со мной: два года назад, на специально купленной в хозяйственном магазине разделочной доске, я написал копию иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия. Об истории, которая со мной приключилась в связи с этой иконой я расскажу немного позже.
Но тут я задумал написать какую-нибудь икону, на практике применив всё то, о чём мне рассказали в иконописной мастерской: со всеми этими санкирями, плавями и пробелами. Выйдя из Даниловского монастыря и направившись на работу, я всю дорогу думал о том, где же взять подходящую доску под икону, что использовать под паволоку и из чего замесить левкас…
На следующий день, придя на работу я подошёл к своему рабочему столу, на котором лежал лист ватмана с очередным объявлением общего мероприятия, посмотрел на кульман с чертежами какого-то кабинета, и в голове набатным колоколом ударило: зачем?! В моём сознании появился страх понимания совершенной бесполезности для спасения души всего того, чем я здесь сейчас занимаюсь. Зачем? Зачем я всё это делаю? Зачем трачу свою жизнь на никчёмное пустое занятие, на вот это? Мне вдруг стало как-то тошно и захотелось бросить всё прямо сейчас и убежать из мастерской, чтобы больше сюда никогда-никогда не возвращаться… Но перед этим обязательно попить чаю.
Я налил в электрический чайник воды, поставил его на пол и воткнул в розетку. И тут входит наш парторг:
– Слава, вот тут нужно написать объявление и сегодня повесить.
– Да, хорошо, Николай Николаич, сейчас напишу, – ответил я, приподняв крышку чайника и заглядывая внутрь.
Тот посмотрел на меня, как бы вглядываясь и что-то выискивая на моём лице, положил на стол написанный на листе блокнота черновик объявления с текстом.
– Сегодня надо, обязательно, – добавил он.
И тут меня сорвало:
– Да! я всё хорошо слышал, сейчас… вот уже пишу это важное объявление, и через пол часа все радостно побегут его читать!
Парторг вышел из мастерской странно на меня оглядываясь. Вслед за ним выбежал и я, на ходу повернув ключ в замочной скважине двери мастерской…
Опомнился я только возле гостиницы «Метрополь». Ноябрьский воздух остудил мой пыл, и я пошёл к «Книжной находке» посмотреть, полистать и просто развеяться. Вообще, я знал все букинистические магазины в округе. И в обеденный перерыв привычным маршрутом успевал обойти некоторые из них. Перейдя улицу по подземному переходу к «Детскому миру», я прошёл по Кузнецкому мосту на Петровку и направился в Столешников переулок, где находился мой самый любимый букинистический магазин. Все мои основные приобретения были сделаны именно там. Но каждый раз я останавливался у одной витрины, где на полке среди прочих книг религиозного содержания стояла Библия с иллюстрациями Гюстава Доре издания 1913 года. Это была моя заветная мечта. Но цена книги в 700 рублей делала эту мечту несбыточной. Мне предоставлялась возможность только подержать свою мечту в руках и полюбоваться потрясающими гравюрами.
Там же когда-то я приглядел огромную книгу с деревянными крышками в кожаном переплёте и с застёжками «Богомудрые труды отца нашего Ефрема Сирина и поучения святого аввы Дорофея» отпечатанную в 1785 году. Полистав эту книгу, я стал просто бредить ей. Когда же я рассказал об этой книге Сергею Васильевичу, посетовав на то, что возможно кто-то купит эту книгу и она меня не дождётся, то он сказал мне:
– Это ведь монашеская книга. И простой человек, а уж тем более семейный, не купит её, потому что ничего из этой книги применить к себе он не сможет.
И вот, в мой тридцатилетний День рождения отец, который был тогда ещё неверующим, подарил мне в конверте 150 рублей, сказав с оттенком досады в голосе: – «На вот, мы с мамой тебя поздравляем. Можешь купить себе какую-нибудь библию». Ровно столько, 150 рублей, стоила книга Ефрема Сирина. Я тут же побежал в Столешники и нисколько не сомневаясь сразу её купил. Все подумали, что я, наверное, рехнулся. Ведь это месячная зарплата инженера и за такие деньги можно было купить настоящий Levi ́s или Wrangler! А тут… Но это было ещё полгода назад, книга лежала у меня дома и уже почти половина её была прочитана.
Теперь же, выйдя из Столешникова переулка на Пушкинскую улицу (Дмитровка), я направился к "Пушкинской лавке", одному из самых знаменитых букинистических магазинов Москвы. Вдруг ноги мои обмякли и в висках застучало пульсом: «Чайник!!!…» На полу, на паркете, я оставил включённым электрический чайник, который наверняка к этому времени уже выкипел и… Дальше мне даже страшно было представить, что могло быть дальше. Я опрометью бросился бежать.
Пробежав мимо Малого театра и нырнув в подземный переход, я мчался с одной только мыслью: «Только бы успеть, только бы успеть…» Подбегая к Старопанскому переулку я уже издали смотрел на окна – нет ли дыма. Пожарных машин рядом с домом тоже не было.
Однако поднявшись на свой этаж, я с ужасом увидел, что весь коридор заполнен дымом. Опять этот дым, как тогда в метро, мелькнуло в голове. Коллеги по работе встречали меня испуганным взглядом. Кто-то с укоризной сказал, проходя мимо: – Что же ты, Слава…
Дверь открыли запасным ключом. Вода в чайнике выкипела, оплётка на проводе сгорела, дно алюминиевого чайника расплавилось и под ним был чёрный круг обугленного паркета. Как так получилось, что я поставил чайник на паркет, а не на специально приготовленный для этого кусок мраморной плиты? Всё это было очень странно.
Отделался я легко: мне влепили выговор. Хотя могло быть всё гораздо печальнее, так как инцидент произошёл в канун празднования 70-летия Октябрьской Революции, в центре Москвы у самого Кремля. В этом некоторые искали преднамеренность.
С тех пор я стал молиться и на работе в своей мастерской, окропив её Крещенской водой. Там был этакий чуланчик, где хранились краски, кисти и на стеллажах лежали листы ватмана с прочим материалом для художества. Это был очень интересный чуланчик, загадочный, со своей неведомой историей.
Когда-то, ещё в довоенное время, этот дом был жилым, как и вся советская Москва. В квартирах этого дома в основном жили люди, находящиеся на работе в Кремле, который был тут же рядом, в нескольких шагах. В одной из комнат жила уборщица кабинета Сталина. В этом доме жил и работал главный художник Военно-морского флота СССР скульптор А.М.Измалков. А в комнате, где располагалась моя мастерская видимо жил какой-то военный корреспондент. По оставшимся старым предметам можно было предположить, что в чулане у него размещалась фотолаборатория. Разбирая всякие бумаги в стоявшем там шкафу, я нашёл пакет с фотографиями и фотоплёнками военных лет снятые на полях сражений Великой Отечественной войны. Причём такие фотографии, которые я уже где-то видел, очень известные, опубликованные в журналах. Вот в этом самом чулане на полке стеллажа у меня стояла небольшая иконка Божией Матери, я зажигал перед ней свечу и молился. Из льняной верёвки я связал себе чётки как мог, навязав обычные узелки, и перебирал их, идя на работу и с работы, в институт и обратно. Ходил я в черной шинели и яловых сапогах, оставшихся после службы в Армии.
Мне легко давалось чтение псалтири на славянском, я на одном дыхании выстаивал длинные всенощные службы в храме, взахлёб читал жития святых и ездил в Троице-Сергиеву Лавру к старцам. Родные и близкие решили, что у меня что-то с головой от переутомления работой и учёбой. Но ведь это было не так. А говорить о призыве Божием, о горении духа, о смене мировоззрения и переоценке ценностей здесь было совершенно бесполезно – никто этого не понимал. Во мне происходил мощный отрыв от мiра и всего яже в мiре, не подконтрольный мне и мною неуправляемый. И сопротивляться этой всемогущей божественной силе совершенно невозможно.
Таково было действие призывающей благодати…