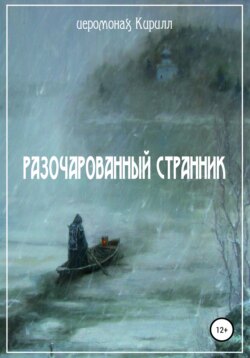Читать книгу Разочарованный странник - Иеромонах Кирилл - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Комнатная келья.
ОглавлениеДмитрий жил в Химках на первом этаже типовой «хрущевки» красного кирпича, торец которой выходил на московскую кольцевую дорогу возле Ленинградского шоссе. Сестра его только что вышла замуж и переехала жить к мужу, а в небольшой двушке с проходной комнатой Дима остался жить с больной мамой.
Клавдия Ивановна, мама Дмитрия, была доброй и простой женщиной с перекошенным лицом после инсульта. Она всё время болела, и Дима суетился вокруг неё, покупая лекарства и всякие приспособления для облегчения болезни. У Клавдии Ивановны диагностировали цирроз печени, и он ящиками покупал ей минеральную воду. А как-то раз притащил домой какой-то непонятный агрегат с проводами, засунул его под кровать, на которой лежала больная мама, и включил в розетку. Агрегат слегка загудел, как холодильник и начал «вытягивать» болезнь. Конечно же это была какая-то ерундовина, которую втюрили Димке за весьма приличную сумму. Но он верил, что эта штуковина, несомненно, должна была помочь. И однажды ночью Дмитрий позвонил мне и сообщил о том, что его мама умерла. Недолго думая, я тут же собрался, взял такси и поехал к нему.
Не помню по какой причине, но почему-то тело Клавдии Ивановны не забрали на «скорой» в морг, и оно лежало тут же, оставленное на кровати до утра. Утром должна была приехать сестра, а пока мы постелили себе на полу в этой же комнате и стали читать Евангелие. Нам не было страшно.
Две недели назад в храме святителя Николая в Кузнецах я купил Евангелие, изданное в прошлом 1984 году Московской Патриархией по благословению Патриарха Пимена. Это замечательное Евангелие, отпечатанное в два цвета, с цветными иконами евангелистов, с зачалами, с золотым обрезом. Оно вполне могло быть напрестольным. Подобные книги в церковных лавках в то время стоили огромных денег, да ещё и очень редко появлялись в продаже – почти никогда. Цена этого Евангелия была сорок пять рублей – пол зарплаты! Таких денег у меня конечно же не было, и я решил отнести в букинистический магазин что-нибудь из своих книг. Перебрав всё, мой выбор остановился на трёхтомнике посмертных произведений Л.Н. Толстого, изданный его дочерью А.Л. Толстой в 1911 году. Мне до слёз было жалко расставаться с этим уникальным изданием в кожаном переплёте, которое как будто только вчера вышло из печати – в идеальном состоянии. Но, за эти книги я мог выручить нужную мне сумму для приобретения Евангелия.
Мы знали, что по усопшему нужно что-то читать. И так-как кроме моего Евангелия у нас ничего больше не было, то мы стали по очереди читать эти божественные строки, едва разбираясь в славянском языке, что ещё больше добавляло сакральность происходящему.
Как-то раз мы возвращались домой из Даниловского монастыря после воскресного богослужения. Спустившись в метро нам нужно было ехать в разные стороны. Прощаясь, Дмитрий спросил:
– Слушай, нет ли у тебя трёшки, а то дома совсем пустой холодильник?
– Конечно же есть. Сейчас, – я достал портмоне и дал ему пятирублёвую бумажку.
И так у меня защемило в груди, глядя на улыбающегося исхудавшего несчастного Димку. Я стал приезжать к нему чаще, покупая по дороге продукты, а вскоре и вовсе остался жить вместе с ним.
Мы были как братья близнецы: с общими интересами, с одинаковым мировоззрением, никогда не спорили, во всём соглашались. Помимо того, что мы никогда не ругались и не ссорились, мы гармонично дополняли друг друга: Дмитрий был несколько флегматичный, а я наоборот – более энергичный. Мало того, он ведь учился на дневном отделении, а я работал и обучался на вечернем. Вот на мою-то зарплату мы, собственно, и жили.
Одну из комнат, которая находилась за проходной комнатой, с самого начала занимал Дмитрий, и там же была его мастерская. Возле окна стоял верстак со всякими надфилями, чеканами, штихелями, вальцами и прочим инструментом художника по металлу. Под столом – компрессор и керосиновая горелка для пайки. На стене над столом было несколько полок с различными химикатами. Там же стоял шкаф с книгами и диван, на котором он спал. В другой комнате, проходной, по середине стоял обеденный стол, несколько стульев и кровать, с ковром на стене, на которой спал я. Это была у нас комната отдыха, молитвы и бесед. Вечерами, сварив картошки и поужинав, мы ставили кассету с записью хора Троице-Сергиевой Лавры, и за чашкой чая обсуждали что-нибудь из прочитанного, рассказывали и вспоминали. А песнопения лаврского хора наполняли наше жилище особой атмосферой.
На свободной стене мы устроили своеобразный иконостас. Здесь же была полочка, подготовленная для молитвослова, псалтири и прочих книг церковного содержания, которых у нас, кроме Евангелия, ещё не было, но мы знали, что рано или поздно они появятся. И тут мне пришла идея сделать аналой для удобства чтения. Стали думать из чего же его сделать. Конечно, у моего шефа, Виктора Емельяновича, была целая столярная мастерская, и там можно было бы сделать шикарный аналой. Но почему-то мы не стали к нему обращаться за помощью. Может быть потому, что не хотели объяснять ему что это, для чего и зачем. Поэтому я пошел в хозяйственный магазин и купил несколько отличных берёзовых черенков для лопат. Из них мы сконструировали складной аналой, покрасили его морилкой «под орех» и сделали на него этакое монашеское покрывало. Потом Димка отрезал кусочек мелкой металлической сетки, на которой он горелкой паял серебряные изделия, взял маленький половник, отогнул у него ручку горизонтально и положил в черпак сетку. На сетку мы клали разожженный уголь, на уголь ладан – это было наше кадило. Так вскоре у нас из квартиры получилась келья.
Под влиянием «Трёх очерков о Русской иконе» князя Е. Трубецкого я решил попробовать себя в иконописи, только не знал с чего начать. Мне очень нравились миниатюры из Лицевого летописного свода, и я даже хотел в этой манере нарисовать месяцеслов. За свечным ящиком в церквах продавались только фотографические иконы, крестики и больше ничего. Церковный календарь невозможно было купить, как и молитвослов. Чего уж там говорить о святцах на каждый месяц. Сергей Васильевич знал, что я мечтаю о календаре и подарил мне календарь за 1974 год:
– Дни памяти святых не меняются, только дни недели разные. Но, это ничего, – сказал он.
Календарь этот был для меня ценнейшей вещью которой я очень дорожил. Быть может, старцы и вспоминали советское время, как самое лучшие годы своей жизни именно потому, что у верующих тогда был один единственный зачитанный молитвослов и крепкая вера в Бога. А разве для спасения души нужно ещё что-то?
И тут начались чудеса. Мне позвонили мои хорошие знакомые и говорят:
– Зайди к нам, когда сможешь. Мы тут были в деревне и в чулане нашли какие-то церковные книги. Посмотри, может тебе что нужно.
Ну так я сразу и побежал к ним посмотреть. Ещё спрашивают «если нужно». Конечно нужно!
Через пол часа я уже звонил в дверь их квартиры на Бауманской. Мы прошли на кухню и мне принесли бумажный свёрток с находкой. Когда я развернул свёрток, то моей радости не было предела. Там были: старый молитвослов на славянском языке, отпечатанный на грубой зеленоватой бумаге без первых и последних листов; псалтирь без переплёта, но зато все листы на месте; часть старинной книги на славянском «Житие и чудеса святителя Николая» изрядно потрёпанной в разрозненных листах; брошюра с «Житием святителя Иоасафа Белгородского». Для меня это был целый клад! Все эти книги я тщательно собрал, подклеил листы, сброшюровал, переплёл и, собственно, они-то и заняли своё место на устроенной для них полке на стене, пустовавшей до сей поры.
А спустя некоторое время мне позвонил отец и стал рассказывать о юбилее их подведомственного ПТУ, с директором которого он был давно знаком. Из этого рассказа я понял, что какая-то контора из Рязани зачем-то подарила им на юбилей старинную икону Спаса Вседержителя.
– Вот директор ПТУ звонит мне и говорит, что им подарили икону и он теперь не знает, что с ней делать, – говорил отец.
У меня в голове все мысли смешались, и я никак не мог выговорить, что пусть бы он эту икону отдал мне. Но отец, словно прочитал мои мысли и продолжал:
– Может тебе нужна эта икона? Поезжай и забери её себе, я уже договорился с директором, и он с радостью тебе её отдаст.
На попавшейся под руку бумажке я записал адрес этого ПТУ и помчался за иконой. Вот таким чудесным образом наша «келья» постепенно наполнялась книгами и иконами.
Икона Спаса Вседержителя оказалась в очень хорошем состоянии, аналойного размера и замечательного письма середины XIX века. Конечно же она заняла на стене центральное место.
Под иконой мы поместили лампаду. В качестве лампадного масла нам посоветовали использовать ментоловое масло, которое продавалось в аптеке. Это масло точно такое же, как и вазелиновое только немного пахло мятой. Но, так как другого ничего не было – подсолнечное коптило и совсем не горело – мы стали покупать масло в аптеке. Продавалось оно в маленьких пузырьках и нам приходилось покупать его по пять-десять штук сразу. Покупали его в разных аптеках, где только оно попадалось, чтобы не обращать на себя внимание. Однако чаще всего приходилось покупать масло в соседней с домом аптеке. И однажды, когда я решил купить несколько очередных пузырьков ментолового масла, аптекарша посмотрела на меня поверх очков и с удивлением спросила:
– А зачем вам столько ментолового масла? Что вы с ним делаете?
– Оно очень нужно… Скажите, а для чего оно, вообще? – поинтересовался я.
– Его закапывают в уши.
– Да? А мы заливаем, – уверенно ответил я с серьёзным видом. Таким образом масло для лампады у нас было всегда.
Рисовать святцы в манере Лицевого летописного свода я всё же взялся, но хватило меня только на одну январскую картинку, которая иллюстрировала эпизод из жития святителя Филиппа митрополита Московского. Получилось неплохо, мне понравилось. Но это очень непростой труд. Здесь нужна большая наработка, а главное – творческий потенциал от избытка переполненности житийным материалом и погружение в эпоху. А для этого нужно бросить работу, институт и полностью заниматься только чтением, рисованием, молитвой, богопознанием и больше ничем. Тут у меня появилось первое чувство тяжести, от всего того, что мешало заниматься иконописью, потому что моя работа имела совершенно противоположную направленность.
После того, как я привёл в порядок полученные от друзей найденные книги, я решил показать молитвослов отцу Алексею Зотову, так как у этой старой книжки на славянском языке не было первых и последних листов, и что в нём вообще есть я не мог понять. В воскресенье я приехал на литургию в Николо-Кузнецкий храм в надежде после службы увидеть отца Алексея и обо всём его расспросить. Литургия шла своим чередом, народу было как всегда полный храм. Я стоял в центральной части храма, чтобы видеть все действия богослужения. Впереди тоже стоял народ вплоть до ограды возле солеи.
И тут я обратил внимание на пожилую полнотелую женщину, стоявшую у солеи напротив меня, на плечи которой был накинут большой серый пуховый платок. Складки платка приняли такую причудливую форму, что они походили на рожу беса с носом, бородой, рогом и одним глазом. Когда женщина крестилась и кланялась, то складки платка перемещались и складывались в осклабистую улыбку, как бы насмехаясь над молящимися. И тут по ходу службы мне нужно было перекреститься и сделать поклон. Перекрестившись, я замер в раздумье – делать поклон или нет? Нет, думаю, не стану ему кланяться. Но потом подумал, что кланяюсь-то я вовсе не ему, а вон туда, поверх его, то есть, поверх этой женщины, на иконостас, где образ Спасителя. Рожа из складок платка продолжала кривляться. Тут я собрался с мыслями, подумав, ну не рехнулся же я в конце концов, и перекрестившись сделал поклон. В это самое время на весь храм раздался звон разбитого стекла. Это когда я поклонился у меня из очков вдруг вывалились стёкла и разбились о каменный пол храма. Грохот был такой, словно уронили стеклянную трёхлитровую банку. Все в храме обернулись на меня: я трясущимися руками собирал на полу осколки разбившихся стёкол…
После богослужения я дождался отца Алексея, который шёл по храму к выходу, благословляя по пути прихожан. Мы отошли в сторону, и я показал ему старинный молитвослов. Отец Алексей взял его в руки, полистал и сделал своё заключение:
– Хороший молитвослов. Здесь есть всё: утренние молитвы, вечерние и последование ко причастию. Береги его.
Потом я рассказал о своём видении в храме и о том, что затем произошло. Батюшка внимательно выслушал, посмотрел на меня серьёзно и сказал:
– Не нужно было кланяться.
Получив его благословение и приложившись к чудотворной иконе Божией Матери «Утоли моя печали» я поехал в «О́птику» на Кузнецком мосту, где однажды мне вставляли стёкла в очки.
Утром я, как всегда, уезжал на работу, а Дмитрий – в Строгановку. Иногда поздно вечером после учёбы мне приходилось возвращался к себе домой. Но мы обязательно созванивались по телефону.