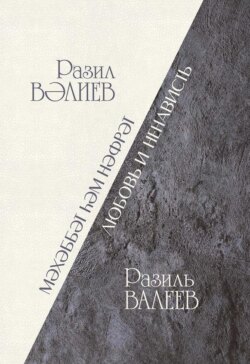Читать книгу Любовь и ненависть / Мәхәббәт һәм нәфрәт - Разиль Валеев - Страница 25
Сугыш кайтавазы / Эхо войны
Жить хочется![7]
(Повесть)
ОглавлениеЗа мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, наградить (посмертно) рядового Миргазизова Рифката Шафкатовича медалью «За отвагу»…
(из Указа Президиума Верховного Совета СССР)
Посвящаю отважному сыну татарского народа
Рифкату Миргазизову
1
– Сейчас… сейчас… – застонал Рифкат. – Вот сейчас…
Он летит и летит вниз, всем телом ощущая, как приближается земля, а парашют всё не раскрывается. Кромешная тьма вокруг, и неодолимое ощущение надвигающейся снизу тверди. Пальцы ноют, огнём горят, а парашют не раскрывается. Голова раскалывается от боли – точно приставили её вплотную к турбине самолёта, и непереносимый рёв ворвался в мозг… А он всё летит и летит вниз. Свистит пронзительный ветер. Земля стремительно приближается; он не может падать так долго…
– Спокойно! – снова уговаривает он себя, из последних сил вытягивая кольцо.
Где ребята? Где все остальные десантники? Вокруг кромешная тьма… Нет, это он просто от страха закрыл глаза. Сейчас откроет – и мир снова станет сияющим, светлым. Но веки придавлены чем-то тяжёлым. И всё это время он летит – быстрее и быстрее. Чем же так придавило глаза?
Неимоверным усилием он разлепил веки. Из бесконечной дали стал излучаться алый свет. Он понял: это восходит солнце. Аземли всё нет— в бездонном мареве он завис в нескончаемом падении. Неужели он летит в бездонную пропасть? Единственное, за что можно зацепиться, – это алые лучи. Сейчас, собрав все силы, последний раз потянуть за кольцо и… Ур-ра! Раскрылся!.. Вон вверху— белый купол…
Страшная боль разрезала голову – та, прежняя, притаившаяся ещё в беспамятстве. Он застонал и услышал сначала явственные, потом затихающие, как тающая дымка, слова:
– Пришёл в сознание…
Но купол парашюта накрыл его, мягко опадая на тихом ветру. «Запутался, запутался, – понял Рифкат. – Надо побыстрее освободиться и бежать вперёд, ведь ребята, наверное, приземлились раньше и уже в атаке…» И тут он увидел их: стоят над ним, лица строгие.
– Лежи, Рифкат, лежи, тебе нельзя двигаться.
Туман перед глазами постепенно разошёлся. Появилось окно и там, за окном, согревшее его ещё в падении солнце. Затем прояснился чистейшей белизны потолок, белые стены, люди в белых халатах.
Он их не знал.
– Что случилось? – Рифкат сам не услышал свой немощный шёпот и, прочистив горло, хотел было спросить громко, в полную силу. Но в этот момент снова взметнулась боль и стала пульсировать в голове. Он застонал и сжал зубы.
– Шприц! – сказал кто-то.
Рифкат почти не ощутил укола на фоне той пульсирующей боли, но вот по всему телу медленно растеклось тепло, тёмно-красный занавес перед глазами стал лениво сползать, и всё вокруг помутнело.
– Не сдавайся, парень! Солдат не должен сдаваться!
Рифкат хотел было повернуться в ту сторону, откуда исходил голос, но голова его не слушалась, как будто тяжелее и неподвижнее не было ничего на свете.
– Не дёргайся, не шевелись. Тебе нельзя шевелиться, – произнёс тот же голос.
«Где я его слышал? Что за люди собрались здесь? Где я? – с тревогой подумал Рифкат и тут же догадался: – А-а, запутался в парашюте, и они подбежали помочь, спасти…»
Он хотел улыбнуться этим людям, но губы не слушались. Тогда он неожиданно открыл глаза и увидел седого человека в военной форме с наброшенным на плечи белым халатом.
– Как дела, солдат? Не очень болит?
И тут Рифкату показалось, что он вспомнил, где видел этого человека, к голове подступила ясная мысль, но вдруг всё снова срезало огненным обручем, сдавившим голову.
– Шприц! – решительно произнёс всё тот же голос.
Вскоре по затылку снова растеклось блаженное тепло. Он стал бояться раскрыть глаза, – казалось, кто-то держит над головой раскалённое кольцо, и стоит пошевельнуть веками, оно тут же опоясывает голову.
Всё-таки он обманул Газраила: медленно приподнял ресницы, и мир во всей чистейшей его белизне сразу обрёл чёткие контуры. Перед ним сидел тот же военный в халате. Рядом держала наготове шприц пожилая женщина в белом колпаке. А позади неё было много людей в белых халатах.
– Терпи, герой! – улыбнулся военный, но улыбка вышла у него какой-то печальной и странной.
– Товарищ генерал… – прошептал Рифкат.
– Да, сынок, я жив, и все живы. Спасибо тебе…
В этот момент всё случившееся совершенно отчётливо встало перед глазами Рифката. Сердце его сжалось, и – он почувствовал это кожей щёк – из глаз скатились две слезинки. А вместе с ними стал исчезать, таять шум в голове, тело становилось всё легче, легче, и он перестал его ощущать. Совсем.
Блаженство. Легко и немного страшновато, как будто спускаешься на парашюте. Оказывается, он и в самом деле летит, только не вниз, а вверх – в синее небо! Внизу стреляют из автоматов, бегут с криками «ура!», с рёвом мчатся танки. А он сжал в ладони гранату, всё выше и выше поднимается в небо, и с каждой секундой всё сладостнее сердцу, хочется смеяться, петь. Но в руке у него граната— пальцы впились в твёрдые выступы на ней, и ничего в мире не осталось, кроме этого смертоносного комка железа. Не выпускать из рук, терпеть, терпеть! Она взорвётся, если разжать пальцы, и тогда он, как подстреленная птица, упадёт вниз. И вместе с ним всё взорвётся – и солнце, и этот незримо голубой воздух. Весь мир, который он так любит.
Рифкат сжал зубы, застонал. Ему снова сделали укол.
Слепя глаза, в комнате полыхало солнце.
Тихо.
Никто не произнёс ни слова. Как будто все застыли навеки, и в повисшей этой тишине было что-то пугающее, недоговорённое, как будто они знали что-то, но не хотели ему говорить.
«Все стоят, только я один лежу… – подумал Рифкат. – И молчат… Почему они молчат?»
Он попробовал подняться, и тут же всё потемнело вокруг, люди скрылись в тумане…
Тишина. Только ровный, безостановочный рокот мотора возле уха, похожий на гул самолёта. Неужели он всё ещё летит в самолёте?
Нет, теперь уже он вспомнил всё…
2
Среди ночи их подняли по тревоге. Рифкат соскочил с кровати второго яруса и, на ходу одеваясь, побежал к дверям казармы. Грохот солдатских сапог по лестнице смолк почти мгновенно: строй замер на плацу. После двух суток непрерывного ливня низкие облака, придавившие верхушки деревьев, неожиданно исчезли, и все в строю не могли оторвать глаз от высокого неба, торжественно высвеченного до самого горизонта крупицами звёзд. Рифкат почему-то вспомнил затухающие огни огромной люстры под потолком в театре: уже началось представление, а он всё не мог оторвать глаз от слабо освещённого потолка, выше которого ничего в жизни не видел…
– Смирно!
Звонкий голос старшего лейтенанта Киреева расколол ночную тишину, и даже звёзды, казалось, зазвенели, ударившись друг о друга.
– Десантники! – сбавил голос старший лейтенант. – С юго-запада наступают войска условного противника. Наша задача – опуститься им в тыл и неожиданным ударом в спину ликвидировать опасность прорыва. Остальное разъясню в пути. По машинам!
Рифкат едва успел перенести ногу через борт, как грузовик рванулся вперёд и, чуть не задев железные ворота части, направился в сторону аэродрома.
Покачиваясь в такт с машиной, десантники молчали: видно, не проснулись ещё… Лишь временами кто-то поправит парашют или сдвинет в сторону упёршийся в бок автомат. Даже черноволосый, похожий на цыгана азербайджанец Вагиз с орлиным носом не заводит разговора. Обычно из него так и сыплются анекдоты, шутки, он нередко доводит ребят до коликов в животе. А шутки-то самые незатейливые: повтори кто-нибудь другой, никто и не улыбнётся, но Вагиз так коверкает русские слова, что ребята падают от хохота…
– Ильдус… – Рифкат прикоснулся к локтю соседа слева, и тот вздрогнул от неожиданности. – Ты что, заснул, земляк?
Ильдус посмотрел на него и не ответил: дескать, не до разговоров. Рифкат покачал головой, показывая, что всё понимает, и стал смотреть на тёмные силуэты деревьев на обочине дороги, которые постепенно уплывали назад.
В последние две недели десантники дни и ночи напролёт готовились к военным учениям. Бегали, пока майка не станет мокрой от пота, бросали гранату – рука, казалось, вот-вот оторвётся от плеча; разбирали и собирали парашют до боли в пояснице. Когда Рифкат вечерами садился писать письмо, не было сил даже держать ручку.
Только в армии он пристрастился писать письма. Здесь едва удаётся найти лишнюю минутку: лишь в пути или на коротком привале; поэтому сначала он долго обдумает, что написать, а потом остаётся перенести эти мысли на бумагу. Правда, в мыслях всё получается гладко, длинно, интересно, а вот на бумаге выходят одни и те же тусклые, затёртые слова.
«Здравствуй, Талгат! С солдатским приветом к тебе твой друг Рифкат. Письмо твоё получил, огромное спасибо. Я уже начал думать, что вы меня позабыли. Служба идёт хорошо, настроение отличное, занимаюсь спортом. Дни стоят знойные, душно – сил нет. Здесь уже поспела вишня. Восемь месяцев прошло, как я служу. Скоро у нас военные учения. Сейчас час дня. Только что вернулись из бани. Талгат! Зайди к нам, скажи Азату, пусть вышлет мне пару кассет. Здесь есть отличные диски, можно записать. Я ему в письме забыл об этом сказать.
Значит, работаешь? Ну, работай, работай. Только смотри у меня, халтурить не вздумай! Когда вернусь, буду поступать в техникум. Вот вроде и всё. Передай от меня всем привет, пожми руку. Пиши мне.
22.06.76 г. Рифкат
Р. S. Через пять дней мне исполнится девятнадцать».
Тот день рождения прошёл незаметно. Накупил лимонаду с пряниками, посидели с парнями вечером, и снова началась обычная солдатская жизнь.
«Завтра надо будет написать письмо домой, рассказать, как прошли учения, – подумал Рифкат. – О том, как много он понял здесь, стал совсем другим. О ребятах, которые как братья, об этих тёмных деревьях по сторонам дороги. Через несколько минут все, кто сидит в машине, будут за многие-многие километры отсюда, а деревья так и останутся стоять. Как им написать обо всём этом?»
«Мама, папа, Азат, Анфиса, здравствуйте!»[8]
Вот интересно, если пишешь письмо человеку, значит, знаешь, что он жив, а всё равно спрашиваешь, как будто мёртвый может прочитать твоё письмо. Ещё в детстве он спросил об этом дедушку Хариса. Тот, помнится, усмехнулся в усы, потом, опершись на косу, долго-долго смотрел на дальние луга, уходящие за горизонт.
– У каждого слова есть свой смысл, сынок. Слово ведь не с неба упало, а из человеческого сердца вырвалось.
– В чём же смысл, когда к живому человеку обращаются «Жив ли ты?», – недоумевал Рифкат.
– Бывает, сынок, в такую передрягу попадёшь, что сразу и не понять, жив ты или нет. А ежели поймёшь, что на этот раз пронесло, вот тогда – счастье… Когда вот с этим глазом фашистская пуля подшутила, думал, больше не видать мне белый свет, – усмехнулся дедушка, показывая на свой изуродованный глаз. – Только здоровый человек не ведает настоящей цены жизни. Заноза в палец попадёт, и то начинаешь волком выть. Это молодым на всё плевать, не считают они времени, не берегут каждую минуточку. Аумирать так неохота…
Харис-бабай крякнул и, резко дёрнув косой, пошёл. С каждым широким взмахом на землю ровно ложилась густая трава…
3
– Десантники!
Ещё мгновение он не мог оторваться от воспоминаний: звонкий звук косы, широкая спина деда, медленно удалявшаяся от него… Уши наполнились рокотом мотора, где-то отрывисто звучал голос старшего лейтенанта Киреева. Обычно он произносил слова отчётливо: ладно подогнанные одно к другому, они перекатывались, как биллиардные шары по гладкому сукну стола. Но в кузове открытой машины встречный ветер разметал их в разные стороны, поэтому фразы у него получались рваные, как кривые, расползающиеся строчки. Подробные объяснения лейтенанта о маршруте, о возможных контрмерах «противника» и ещё какие-то слова Рифкат почему-то пропускал мимо ушей, словно ожидал самого главного.
– Не суетиться, тщательно подготовиться к каждому шагу. Каждый отвечает за себя и за товарища рядом. Уже в воздухе старайтесь не потерять друг друга. – Слова его были жестки и отрывисты. – Из Центрального штаба прибыла комиссия. У нас сегодня испытание. Покажем, ребята, на что способны десантники!
Последние слова Киреев выкрикнул, лихо сдвинув назад синюю беретку, улыбнулся им, и за этой смущённой улыбкой все увидели, какой заводной и весёлый их старший лейтенант. И всего-то старше их на пять лет…
Кирееву так хотелось подбодрить ребят, сказать им что-то важное и запоминающееся, но молчание затянулось, и наконец он, так и не найдя нужных слов, неожиданно крикнул:
– За-пе-вай!
Вагиз запел сразу же, как будто только и ждал команды. Исходящий откуда-то изнутри его голос взвился в голой степи, и сразу же к нему присоединился Тансык из Казахстана, потом вплёлся высокий, с горловым клекотаньем голос Гурама из Грузии. И через мгновение ладный хор, в который влились голоса Николая из Иркутска, Виктора из Подмосковья и Ильдуса из Татарстана, гремел в тихо дремавшей перед рассветом степи. Эта степь никогда не слышала такого хора, такой красивой мелодии, рвущейся из души у этих молодых парней из самых разных концов страны. И удалое веселье русских праздников, и безоглядный простор казахских степей, и эхо синих грузинских гор, и сладкая грусть татарских мелодий – всё слилось воедино.
Рифкат не заметил, как тоже подхватил песню. Ему казалось, что не только голоса, но и сердца их бились в едином ритме:
Мы – крылатого десанта солдаты,
Беркутами нам не быть нельзя…
Песня заглушила гул машин, посвист ветра и разлилась по голой степи. Её тут же подхватили на других машинах. И от мощного эха, разлившегося по всей колонне, Рифкат забыл, что впереди их ждут военные учения и, наверное, тяжёлые испытания. Во всём мире осталась одна только песня, и будто у парней, недавно понуро молчавших в ночи, выросли крылья.
Тормоза машины завизжали так пронзительно и неожиданно, что песня зависла, как жаворонок над полем, но даже когда парни стали спрыгивать на землю, ещё звенела над всей колонной.
Дальше всё происходило в лихорадочном темпе: построились, после команды сразу побежали к самолёту. Похожие на пасть огромного крокодила «ворота» самолёта в мгновение ока проглотили десантников. И когда «ворота» стали подниматься вверх, закрывая огромный люк, Рифкат толкнул Ильдуса. Тот кивнул, показывая, что понимает друга. Вот она, та самая минута, когда всё началось по-настоящему. Никогда слова из него не вытянешь, что ни скажи, покивает головой, словно ничто удивить его не может и ни в чём он не знает сомнений. Иногда Рифката это раздражает, а иногда он завидует стойкости друга.
Рифкат будет прыгать восьмым. И всё же страшновато. Конечно, не так, как в первый раз, – тогда так струсил, что до сих пор стыдно. В открытом люке прямо перед ним тогда разверзлась бездна, и шагнуть в неё было выше его сил. Да ещё совсем рядом гудел пропеллер, и Рифкату казалось, что стоит только оказаться в воздухе, как металл сразу же разрежет его на кусочки. И только когда командир положил руку на плечо и скомандовал: «Пошёл!», Рифкат зажмурил глаза и прыгнул…
Этот самолёт десантники по-свойски называли «летающим дворцом» – огромный, с их двухэтажную казарму; он казался им родным домом, особенно когда до земли – две-три тысячи метров.
Ночью Рифкат ещё ни разу не прыгал.
Когда «крокодилья пасть» совсем закрылась и, набирая обороты, самолёт задрожал, загудел всем корпусом, у Рифката разболелась голова.
…Над горизонтом поднимался красный шар солнца, он казался таким близким, как будто до него можно было дотянуться рукой. Рифкат увидел, что лица сидевших солдат стали в его лучах бронзовыми. Он снова потянулся было к Ильдусу, но в этот момент резко вспыхнула лампочка на потолке.
– Приготовиться!
Сегодня первым в ряду стоит Вагиз. Прыгать первым особенно страшно. Это как нырять в безграничный океан. Но в самолёте было так душно, что хотелось быстрее прыгнуть, как в воду. Эх, в самом деле, искупаться бы сейчас! Есть ли на свете что-нибудь более приятное, чем купаться в тихих озёрах возле Камы?
Когда отец работал на карьере, Рифкат каждый день носил ему обед. Перекусят, улягутся навзничь на душистую траву и смотрят на облака: они медленно плывут над их головами.
– Кем ты у меня станешь, когда вырастешь? – спрашивает то ли у сына, то ли у себя отец.
А Рифкат не знает, что ответить и надо ли отвечать.
– Пап, а почему дедушка к нам в Нижнекамск не переезжает? – отвечает он вопросом на вопрос. – Ведь трудно одному в деревне. Жил бы у нас, а?
– Сколько раз мы его пытались уговорить – всё тщетно! Ты же знаешь его, приедет, поживёт день-другой и заводит свою песню: «Ильметь, Ильметь» – и вздыхает, как будто его посадили в клетку. И Ильметь его рядом: переехал за Каму – и вот оно, это село. Нет, трудно оторвать человека от основ, корней, от родной земли…
– Пап, но вы с мамой ведь оторвались, переехали в город.
– Нас, сынок, гоняла нужда. После войны в поисках счастья многие двинулись в шахтёрские края… И мы с мамой за ними. Ещё женаты не были— просто односельчане. На чужбине вдвоём нам было легче, так дружба переросла в любовь, создали семью, потом у нас появились вы. А родное село никак не выходило из памяти, так скучали, что ночью даже деревенские собаки снились. С дедовской землёй связь кровная, её просто так не разорвёшь… Потом услышали, что рядом с Ильметью на Каме строят большой город, и вернулись ближе к дому. Да вот до родного села всё-таки не добрались. Оказывается, трудно вернуться туда, откуда ушёл в юности. Как будто хочешь вернуть то, что когда-то безжалостно предал…
Рифкат откидывается навзничь и пристально, не отрываясь, смотрит, как высоко-высоко в небе парит жаворонок.
– Пап, а я вырасту и вернусь в ваше село. Будем вместе с Харисом-бабаем сено косить, дрова возить. Научусь играть на гармошке…
– Хе-х-х, – усмехается отец. – Поглядим, сынок, когда подрастёшь…
Он неторопливо надевает фуражку и, широко шагая, уходит к экскаватору. Уже с гусеницы оборачивается и кричит Рифкату:
– Сын, садись ко мне, водить научу!
– Нет, пап, я лучше рыбы наловлю на уху!
Удочки у Рифката всегда с собой. Укрепив удилище на крутом берегу, он спускается чуть в сторону и ныряет со скользкого глинистого откоса. Но держится возле берега – без отца или Анфисы` заплывать далеко страшновато. Нет, он не боится утонуть – просто не переносит одиночества. Одному скучно и по улицам ходить, и дома оставаться. Если рядом нет человека, становится грустно, начинает болеть голова… Вот и сейчас сжало виски. И рёв, доносящийся из открытого люка, похожий на звук работающего экскаватора, всё глубже и глубже буравит мозг.
В этот момент Рифкат увидел, как впереди зажглась зелёная лампочка. Впоследние перед прыжком мгновения, когда уже некуда было деваться, когда он всем телом ощущал неразрывную связь с открытым люком, в котором один за другим исчезали ребята, парень подумал, что слишком часто стал вспоминать родной дом и впадать в какие-то грёзы. Видимо, соскучился так сильно, что душа помимо воли рвётся домой. Тут же мысленно утешил себя: после этих учений совсем скоро настанет осень, а там и отпуск не за горами…
– Пошёл!
Рифкат оттолкнулся и прыгнул. Сердце замерло в безотчётном стремлении побыстрее преодолеть эту черту, отделявшую огромное чрево самолёта от бездны. Побыстрее избавиться от головной боли, сверлящей мозг, как взвинченная до предельных оборотов турбина… Но вместо холодного, упругого ветра его лицо охватила горячая волна, по спине, по всему телу как будто пустили ток. Он не летел вниз, а завис в воздухе, и сквозь сладкую теплоту, окутавшую его, как вода в Каме в знойный день, просачивалась, оставляя его, боль в голове, и слышался чей-то разговор…
4
– Как состояние? – спросил низкий голос.
– Бредит. Временами забывается. После укола снова приходит в себя. Потерял очень много крови. – В мягком, приятном голосе женщины, с торопливым беспокойством говорившей эти слова, были такая тревога и жалость, как будто во всём этом была виновата она сама.
– Старший лейтенант Сидоров, сообщите в роту: рядовому Миргазизову нужна кровь. Хирург из окружного госпиталя ещё не прибыл?
– Через несколько минут самолёт с ним приземлится. Машину уже послали.
– Хорошо. Идите.
Услышав знакомые голоса, Рифкат открыл глаза. В палате те же люди. Только вместо генерала на стуле сидит командир полка. Женщина в белом халате держит в одной руке шприц с какой-то жидкостью, а другой гладит его лицо. Её осторожные, мягкие прикосновения и были как тёплый ветер в полдень возле Камы, как ласковая её вода.
– Проснулся? Как дела? – Всегда прямой, точно струна, с громким, строгим голосом, командир наклонился над Рифкатом и спросил тихо, осторожно, почти шёпотом.
– Товарищ полковник, больного нельзя беспокоить, он должен немного окрепнуть.
Рифкат перевёл взгляд на врача. Широкое лицо, голубые глаза, русые волосы. Совсем как мама. Такой же упрёк или сожаление, как в ласковых и печальных маминых глазах, когда он вытворит что-нибудь в школе, и она почти его не бранит, только спросит: «Ну разве так делают, сынок, о чём же ты думал?» – и посмотрит с тихим укором… Рифкат вдруг понял, что всё бы отдал сейчас за этот укоряющий взгляд, – пусть бы ругала его, как не ругала никогда в жизни, только была бы здесь, рядом с ним.
– Не очень болит, сынок? Ладно, ладно, не отвечай, лежи спокойно, не шевелись. Сейчас перельём тебе кровь, вот-вот подъедет хирург…
Чем больше она говорила, тем дальше уходила головная боль и стихал огонь, пылавший во всём теле. От этой ласки и теплоты к горлу Рифката подступал комок. «Не раскисать!» Он стал повторять про себя это слово, удивляясь и стыдясь: надо же! И били его, бывало, и обижали – никогда не плакал. Только сжимал зубы. А от этих ласковых слов и прикосновений слёзы невольно наворачиваются на глаза.
Он впился взглядом в потолок, гася слёзы, – это почти удалось, но его внимание отвлекла ноющая боль в правой руке – постепенно она поползла по всему телу и стала нестерпимой. Рифкат сжал зубы, от гримасы складками покрылось лицо. Ему тут же сделали укол, и скоро боль утихла. Опустошённый, он лежал без движения. Как будто его сильно избили, а он, чтобы мама не заметила этого, забился в угол кровати и замер – не стонет, не жалуется. А мама, хоть и догадывается, что стряслось неладное, притворяется непонимающей: «Что, устал, сын? Или заболел? Ну, лежи, отдыхай».
А Рифкат накрывается одеялом с головой, чтобы мама не видела его лица, и исходит злостью. Если бы Ильдуса не ударили сзади, а его самого не сбили с ног, тем парням ещё бы и не так досталось…
5
Они вышли навстречу и преградили дорогу, когда Рифкат вместе с Анфисой, Ильдусом и Галиёй возвращался с танцев. Пятеро парней. Руки в карманах, все одинаково что-то жуют. Одного из них – длинного парня с большой патлатой головой – Рифкат видел несколько раз. Он из соседней школы, баскетболист.
Час назад, когда Рифкат сидел на скамейке возле танцплощадки и играл на гитаре, вокруг него собралась целая толпа: облепили скамейку, подпевали и веселились вовсю. А эти пятеро встали неподалёку: и на танцплощадку не идут, и к ним не подходят. Затем этот длинный парень повернулся и беспрекословным тоном бросил:
– Эй, дайте-ка закурить!
– Ты, друг, не по адресу обратился. Мы не курим, – спокойно и сочувственно откликнулся Талгат. – Видишь, вон труба химкомбината дымит? У неё и спроси. – Он показал рукой на огромную трубу на окраине города, исторгавшую клубы чёрного дыма. Анфиса и Галия прыснули. Длинный помолчал, потом сунул руку в карман и шагнул к ним. Рифкат прекратил играть, все напряжённо замерли, только звуки музыки с танцплощадки доносились в повисшем молчании. Длинный отбросил назад растрёпанные волосы и небрежно бросил что-то в лицо Талгату. Монетка упала на асфальт.
– На Никулина за три рубля ходил. А это – твоя цена, юморист. Хочешь пятак заработать, изобрази чего-нибудь, поломай перед нами комедию. – Он произносил слова небрежно, абсолютно уверенный, что против него никто не осмелится сказать и слова, потом, демонстративно сплюнув, резко обернулся к Галие, схватил её под руку и сказал: – Пойдём, красавица, подёргаемся!
Галия растерялась, попыталась выдернуть руку:
– Отпусти, больно!
Однако длинный и ухом не повёл, тащил её за собой к танцплощадке.
– Отпусти, говорят! Чего пристал, бесстыжий!
– Я бесстыжий? – деланно рассмеялся парень. – Я б тебе показал, где мой стыд, – заскрипел он зубами и смачно сплюнул. – Но здесь детишки. Айда, отойдём в сторонку…
Речь его мгновенно, на полуслове, оборвалась. Галия, почувствовав, что её рука свободна, отбежала в сторону.
Рифкат так завернул руку длинного за спину, что тот застыл от боли, согнувшись вперёд, и не мог шевельнуться. Наконец тонким, визгливым голосом прокричал:
– Парни! Чего смотрите? Дайте им!
Однако его друзья даже не тронулись с места – возле танцплощадки ходили дружинники, и те замерли, сбившись в кучу.
– Отпусти! Ведь тебя никто не трогает! – проскрипел сквозь стиснутые зубы длинный.
– Ещё раз тронешь девушек, я тебе покажу, где табак растёт! – Голос Рифката дрожал от злости. Он брезгливо оттолкнул парня, показывая, что ему противно марать руки о него.
Длинный споткнулся, но не упал и, распрямившись на ходу, исчез в кустах. Четверо остальных мигом последовали за ним.
Рифкат хотел было поиграть на гитаре, но настроение было испорчено.
– Винищем от него несёт, – не могла успокоиться Галия, – бандиты!
– Не вешайте носа, ребята, давайте веселиться! – сказал Рифкат, но в его голосе всё ещё звучали нотки беспокойства. И вдруг резко поднялся со скамейки: – Ребята, пошли к Сашке сходим!
– Да кто нас в такое время пустит к нему? – махнул рукой Талгат.
– А мы постоим под окном, споём ему что-нибудь, поиграем на гитаре, – загорелся Рифкат.
– Ему, наверное, скучно там одному, – поддержала Анфиса Рифката.
– Ему сейчас не до песен, – тихо произнёс Талгат. – У нас врач рядом живёт, говорит, вообще под вопросом, выживет ли…
– Да, – опустил голову Ильдус, – сломать позвоночник – дело нешуточное.
– Всё, ребята, пошли к Саше! – Рифкат обнял друзей за плечи и, когда все двинулись вслед за ним, негромко затянул:
Тёмный лес, тёмная ночь.
Хорошие кони нужны, чтобы пройти…[9]
Когда они шли по улице к больнице и пели про тёмную ночь, ему казалось, что уже опустившаяся темень медленно отступает прочь и от показавшихся звёзд светлеет чёрная впадина неба… Так хорошо было шагать вместе, ощущать совсем рядом, как идёт и негромко подпевает Галия. Вот что значит хорошая песня. Без неё опустел бы мир…
6
Они замолчали, как только вошли в больничный двор. В освещённых окнах были видны белёные потолки и стены.
– Где ж его окно? – шёпотом спросил Ильдус.
– С той стороны, – спокойно сказал Рифкат.
– Откуда ты знаешь?
– Да я сюда почти каждый день прихожу. Уже все больные привыкли. Только Саша не может подойти к окну. Но всё слышит и разговаривает.
– Слушай, да как же так получилось, что он выпрыгнул из окна? – недоумевает Талгат. Он учится в другой школе и подробностей того, что произошло, не знает.
– Девчонки ему устроили самосуд, – зло ответил Рифкат. – Учиться, видите ли, стал плохо…
– Но они хотели как лучше, – подал голос Ильдус и тут же, застеснявшись, что защищает девчонок, опустил голову.
– Надо было сначала разобраться! – Не успокаивался Рифкат. – У его родителей дело до развода дошло, он целыми днями шастает по улице, чтобы не слышать их скандалов, до уроков ли в такой ситуации…
– И правильно сделал, что прыгнул, – поддержала брата Анфиса. – Настоящий парень в такую минуту долго не думает.
– Он предупредил же девчонок: если не отступитесь, прыгну в окно. Вот и прыгнул, – вздохнул Рифкат. Он взял на гитаре самую высокую ноту, словно подавая сигнал, и сразу же из углового окна высунулось несколько голов.
– О, гитарист пришёл! – заметно обрадовались наверху. – Да ещё с целым ансамблем песни и пляски! Саш, друг твой пришёл.
– Как там дела у нашего парашютиста? Друзья пришли, а ему лень встать, к окну подойти! – притворно обиделся Рифкат.
– Ну да, так я и кинулся к вам, – слабо донёсся из глубины комнаты голос Саши. – Мне и тут неплохо…
– Прыгнуть-то он прыгнул, – тихо, лишь для них прошептала Анфиса, – только парашют забыл…
– Всем трепался, что в морфлот пойдёшь, а сам десантником заделался? – продолжал шутить Рифкат и вдруг прикусил язык: куда теперь Саше, какой морфлот со сломанным позвоночником?.. Хорошо, если вообще встанет и шагать сможет по ровной земле. «Самого больного места коснулся», – с горечью подумал Рифкат.
– Ладно, хватит вам ерунду нести, – вмешался мужчина, который, услышав голоса ребят, высунулся из окна. – Пропади пропадом все эти болезни. Ваш Саня из таких парней, что не только капитаном, контр-адмиралом ещё станет! А ты лучше сыграй нам что-нибудь, Рифкат. Тебя, кажется, так зовут? Не лекарство, а песня по-настоящему лечит человека. Только вот дрыгалка твоя мне не очень нравится, была б у тебя, парень, гармонь…
Рифкат прошёлся по струнам.
В этот момент Саша что-то сказал в палате, и мужчина отвернулся от них.
– Не слышно ему, говорит, – передал он стоявшим внизу. – Вы поднимитесь в новый корпус, оттуда всё видно. И «парашютиста» своего разглядите.
Они торопливо поднялись по ступенькам недостроенного здания, возводимого как раз напротив окон Сашиной палаты. В темноте Ильдус споткнулся.
– Анфиса, тебе трудно платок развязать?! – сердито сказал Талгат, и все рассмеялись: даже в темноте огненно-рыжие волосы Анфисы, выбившиеся из-под платка, полыхали ярким пламенем.
– О! Так вас тут шестеро! – удивился Рифкат. – И все лежачие…
– Лежачие-ползучие, – засмеялся мужчина. – Меня вот отремонтировали, скоро домой. Уже терпения нет. Да и трактор мой ждёт…
– Расскажите, пожалуйста, про свой трактор, – попросил Саша. Он лежал в глубине палаты и заметно стеснялся при девушках. – Ребята, пусть он вам расскажет!
– Да что там рассказывать, – махнул рукой мужчина.
– Пока не расскажете, играть и петь не будем, – пошутил Рифкат.
– Что трактор – куча железа, вот и всё. Не для железа живёт человек. Для семьи, для друзей-товарищей, для людей в общем.
– А что ж вы тогда говорите, что вас дома трактор ждёт? – Откуда вдруг к Ильдусу пришла смелость, ведь всё время только головой кивает и со всеми соглашается.
– Я просто привык к нему. В первые дни он даже снился мне…
– Кто снился? – не поняла Анфиса.
– Трактор, дочка… Лето же у нас засушливое было, реки повысыхали. Я целый день запруду нагребал, а вечером оставил трактор и пошёл домой. Только улёгся спать, кто-то орёт: «Трактор горит!» Меня точно ошпарили, ноги в брюки – и бежать. А он, бедолага, уже в пламени… Как ни сбивал огонь, бесполезно. Уже к баку подбирается, а он, если жахнет, винтика не оставит. Дёрнул пускач, а шнур запутался. Пока распутывал его, огонь уже до кабины добрался. Рванул я пускач, ещё раз – завёлся родной, узнал хозяина. Влетел в кабину и поехал я на задней скорости прямо в пруд, который днём прудил. Вот так. А очнулся уже в больнице.
– Вы ж могли сгореть?! – не то спрашивал, не то поверил ему Талгат.
– В такой момент разве думаешь об этом?
Тут Рифкат взял в руки гитару и, пробежав пальцами по струнам, запел:
Тёмный лес.
Хороший трактор нужен,
чтобы пройти…
Мужчина звонко, на всю палату, рассмеялся.
– Вот шельмы! Над всем насмехаются! Тракторам такие вот здоровенные парни нужны. А вам бы только на гитарах тренькать да шайбу гонять. Как завтра жить собираетесь?
– Пусть о завтрашнем дне ишак думает, – небрежно бросил Талгат.
– Правильно, даже ишак о будущем заботится, а ты, если не думаешь о завтрашнем дне, выходит, глупее ишака…
Рифкат видел, что Талгат хотел сказать что-то резкое, и остановил его:
– Подожди, не петушись. А вы, дядя, не горюйте: хуже других не будем.
Он без промедления взял аккорд и запел:
И в огонь мы ещё войдём.
Мы поднимемся ещё в небеса.
Быть солдатами для нас нетрудно,
Если согласятся девушки ждать.
– Так ведь, Сань? – крикнул Рифкат другу в окно и продолжил:
Мы вернёмся окрепшими,
мужчинами став,
Два этих года очень быстро пройдут.
Сквозь огонь пронесёт
солдат любовь…
Если девушка будет ждать.
– Может, зря я вас обидел, ребята, – задумчиво произнёс мужчина, когда песня закончилась. – Если такие песни поёте, значит, есть у вас кое-что за душой, есть… Дед мой покойный говорил: кто в солдатах не побывал, на всю жизнь мальчишкой остался. Большинство тех, кто в армии не был, возле магазинов ступеньки сторожат…
– Слоняются по улицам без дела, волосы поотпускали, не поймёшь, где парень, где девка! – невпопад вступила в разговор полная женщина с этажа пониже. Руки её, каждая величиной с двухпудового сома, лежали на подоконнике. – Из них одни бандиты и выходят! Пошли отсюда, и без вас шума хватает…
Тут она заметила, какая убийственная тишина встретила её слова. Женщина захлопнула окно. Рифкат увидел, что почти все больничные окна раскрыты и в каждом стоят люди.
– Пой, пой, парень, не обращай внимания!
– Ну что, ребята, давайте нашу споём, а? – негромко сказал Рифкат.
Провожая на перронах вокзалов,
В лоб целовали нас матери.
По пыльным дорогам прошли
Ещё не видавшие мира дети.
Они пели долго, и всё это время от окон больницы не отходили люди.
– Пришли к Саше и забыли про него, – очнулся Талгат.
– Да я вас слушаю, ребята, слушаю, мне очень хорошо вас слушать, – тотчас подал из палаты голос Саша.
Стали прощаться уже в полной темноте.
– Выздоравливай, Саш!
– Скорее поправляйся!
– Будьте здоровы, агай!
– Передайте привет своему трактору!
По лестнице спустились на ощупь и пошли к воротам. Вслед неслось: «Ещё приходите!»
Уже выйдя за ворота, Рифкат обернулся. Больница, совсем недавно сиявшая всеми окнами, внезапно погрузилась в темноту, лишь в нескольких палатах ещё горел свет. Как будто под звуки гитары и под их песни все людские недуги и боли ушли на миг, а теперь снова вступили в свои права. «А я ещё ни разу не лежал в больнице, – подумал Рифкат. – И как только Саша выдерживает? Ведь шевельнуться нельзя. Будь я на его месте, что бы, интересно, делал?»
На улице они разделились на две группы и пошли домой.
7
Рифкат потихоньку перебирает струны. Но никто уже не запевает. Все устали и не решаются нарушить тишину ночного города. Ильдус немного поотстал. Когда перешли через трамвайные пути и повернули к дому Миргазизовых, сзади послышался топот ног.
– Рифкат, беги! Девушки, бегите! – Ильдус кричал и бежал к ним изо всех сил. Его преследовал длинный парень с растрёпанными волосами. Следом за ним ещё четверо. Длинный догнал Ильдуса и замахнулся.
– Анфиса, гитару!
Сорвав с шеи гитару, Рифкат ринулся назад и с разбегу ударил в живот длинного парня – тот свалился на тротуар и, корчась, засипел.
– Глушите его, ребята, гитару возьмите, чтоб заткнулся навсегда… – Одной рукой он держался за живот, второй бил лежавшего на тротуаре Ильдуса.
Второму Рифкат завернул руку за спину и так толкнул, что тот влетел в плотную стену кустов рядом с тротуаром. Остальные окружили Рифката. Поднимая Ильдуса с земли, он принялся махать правой рукой. Один из парней вырвал гитару из рук Анфисы, и она пронзительно закричала, к ней присоединилась Галия.
И в этот момент Рифката ударили по лицу. У него всё вспыхнуло перед глазами, в воздухе закружились огненные бабочки. Он покачнулся, но не упал. Его ударили ещё и ещё. «Не падать! Не падать!»– повторял он про себя. Кто-то направил в глаза фонарик. «Сейчас опять ударят», – подумал Рифкат, но вдруг увидел подъезжавшую милицейскую машину.
– Бандиты! – произнёс он и сплюнул кровь…
И вот теперь он в постели. Всё внутри кипит от злости, что поддался тем парням. Мама, конечно, всё поняла, но притворяется: «Отдохни, отдохни, сынок, не волнуйся», – и ставит перед ним чай. Рифкат делает вид, что всё нормально, пытается улыбнуться матери и плотно сжимает от боли зубы.
Вдруг невыносимо начинает болеть голова. Как будто кто-то в мозг вбивает гвоздь, и с каждым ударом он входит всё глубже и глубже. «Тук-тук, тук-тук», – стучит молоток.
– Сейчас, сейчас, – говорит мама.
Только почему она говорит по-русски?
8
Когда этот проклятый гвоздь в голове начал медленно растворяться и потом исчез совсем, Рифкат открыл глаза. Перед ним, ободряюще улыбаясь, стояла врач.
– Что, дружок, спишь или просто задумался? – спросила она.
Рифкат хотел что-то ответить, но губы не слушались его. Врач, как будто угадав его состояние, кивнула и влажной марлей смочила его засохшие губы, а потом положила прохладную тряпицу на лоб.
– Задумался… – Рифкат удивился, что слова его еле слышны.
– Старайся много не думать. Голове твоей нужен отдых и покой. Гляди в потолок и лежи себе тихо, – пробормотала врач, осматривая его голову.
– Мысли… сами… – Рифкату было трудно договаривать фразу до конца, но они, чувствует он, понимают его.
– Ладно, ладно, тогда старайся подумать о чём-нибудь хорошем.
Чтобы доставить врачу удовольствие, он довольно долго лежал глядя в потолок, но хорошими его мысли назвать нельзя. «Раз уж вызвали хирурга из окружного госпиталя – значит, дела мои не самые лучшие».
– Готовьте к операции, – услышал он голос врача из округа.
Прежде укола боялся, а теперь вот операция. И что резать, это ведь голова! Хотя и правая рука не в порядке, – это он уже понял. У отца тоже нет пальцев. На шахте оторвало. Как же он будет играть на гитаре?
От брызнувшей в мозг боли Рифкат заскрипел зубами, его лицо исказилось гримасой.
– Болит, сынок, может, ещё укол сделать?
Услышав голос врача, он снова вспомнил мать.
– Не надо… До операции… – Его речь была прерывистой. – Маме не пишите… Пусть не знает… Где Ильдус?
– Кто?
– Ильдус.
– Кажется, он приходил, земляк твой. Ждал-ждал, не пустили, он ушёл.
– Пустите его.
– Так ведь к тебе столько приходили… Как сказали, что Миргазизову нужна кровь, всем полком налетели. Одиннадцать человек отобрали – у кого группа крови совпадает. Сейчас ещё под дверью шумят, зайти просятся.
– Пустите их, – тихо попросил Рифкат и поднял глаза на врача.
Она не смогла выдержать этот взгляд и кивнула:
– Только не надолго. И не шевелиться. Рана раскроется.
Солдаты вошли в палату, стараясь ступать без шума. Сняли голубые береты, держат в руках. И не знают, что говорить.
– Привет, Рифкат!
– К тебе не пускают.
– Ильдус где? – спросил Рифкат.
– Да он за ворота ещё, наверное, не вышел, – зачастил незнакомый солдат и, не ожидая просьбы, выбежал из палаты.
Врач недовольно покосилась.
Все молчали, ни у кого не находилось слов, а Рифкат смотрел им в глаза и ощущал такую близость к этим парням!..
– Сегодня выстроили полк, генерал рассказывал про тебя, – начал младший сержант.
Рифкат видел его раза два. Володей, кажется, зовут. Да, Володя Чигарев.
– Ты ж, наверное, не знаешь всех парней, – догадался младший сержант. – Ефрейтор Роман Шильмут, рядовые Виктор Бурка, Виктор Желятин, Николай Меблев, Владимир Богданов, Константин Абашкин, Владимир Ярмошевич, Михаил Бахтеев…
Когда сержант называл имена, каждый делал шаг вперёд. Как будто Рифкат – их командир и, стоя перед строем («Да уж… стоя», – невесело улыбнулся про себя Рифкат), производит поверку солдат.
– Чего вы топчетесь на месте, садитесь, – сказала врач.
Солдаты переглянулись и уселись на кровать напротив. И вдруг у всех у них развязались языки.
– Если бы не ты, Рифкат, так и не узнал бы, какая у меня группа крови. – Это расслабленно пошутил то ли Виктор, то ли Володя. У Рифката все имена перепутались в голове.
В разговор влез парень с торчавшими, как у ежа, смоляными волосами – кажется, Роман:
– Мне говорят, крови надо двести граммов. Да хоть полведра…
– Ребята, вроде бы люди одной группы крови произошли от одной обезьяны? Правда, нет? – серьёзно спросил Николай.
– А что такое? – состроил на лице озабоченную мину Роман.
– Так, выходит, мы ж все родные братья! – обрадовался Николай.
– Это верно, – согласился Роман и тут же добавил: – Теперь, Коля, я наконец-то понял, на кого это ты так похож…
От дружного смеха, похоже, сотряслись стены палаты. Рифкату так хотелось расхохотаться вместе с ними, как раньше – во весь голос, чтобы слёзы выступили на глазах, но не дремлющая ни на мгновение боль отделяла его от них непреодолимой стеной. Они и после этого говорили наперебой: вышел боевой листок с заметкой о нём, приходил прапорщик из музея части, фото спрашивал, – но Рифкат слышал это уже в тумане.
– Рифкат!
Туман в палате медленно рассеялся, и перед ним возник Ильдус. Он тяжело дышал, лоб мокрый от пота. И глаза влажные то ли от пота, то ли от слёз.
– Так, ребята! Время ваше вышло, – беспрекословно начала врач, а Ильдуса, поднявшего на неё растерянный взгляд, поспешила успокоить: – Земляк пусть останется.
Все нехотя встали и, снова присмирев, потихоньку вышли из палаты. Потом дверь приоткрылась, и в неё заглянул Николай:
– Рифкат, не забудь, теперь мы все родные, держись!
Ильдус стал ощупывать потихоньку руки, тело, голову Рифката.
– Цело, у тебя всё цело, – просияла радость у него на лице.
Рифкат шевельнул правой рукой, кисть которой была как будто погружена в постоянную боль.
– Да чепуха это, – взволновался Ильдус, – поправится, теперь вон какие протезы делают, лучше настоящей!
Если бы он знал, какое счастье слушать его слова на родном языке, – так же с ним говорил отец, сёстры, мать.
– Почему в последнее время от них не было писем? – встревожился вдруг Рифкат. – Может, заболели? Или просто времени нет? Мне письма не приходили, Ильдус?
– Нет… Может, сегодня придёт, тогда я тебе принесу – сразу же.
И тут Рифкат вспомнил своё последнее письмо домой – всё, до последней строчки…
«Живы-здоровы, дорогие мои? С солдатским приветом пишет вам рядовой гвардии Рифкат Миргазизов. Я живу хорошо и как описать то, как я живу, не знаю. Вы мою жизнь представить себе не можете. Тут не то что дома, в постели не понежишься, не пойдёшь куда хочешь. На всё режим, на всё приказ. Но ради того, чтобы вы в мире и спокойствии жили, чтобы мир был на земле, и не такое можно стерпеть. Честно говоря, даже горжусь, что это зависит от меня. Впереди времени много, а жизнь только начинается – успею ещё отдохнуть и повеселиться. До армии я многого, оказывается, не понимал. А когда прыгнул в первый раз с парашютом, увидел, какой мир прекрасный, и тогда как будто смысл жизни передо мной открылся. Чуть не крикнул, чтобы всем людям было слышно: «Жить хочется!»
Ладно, что-то я расчувствовался. Всё-таки напишу немного о своём житье-бытье. Вчера у нас был большой праздник. Прыгали с 800-метровой высоты. Знаете, этого нельзя передать, – какое счастье, когда летишь вниз, дёрнул за кольцо и – паришь над землёй…
В нашей роте из Татарстана пять человек. Когда сильно тоскую, есть с кем отвести душу. Всё идёт отлично, только времени не хватает. Недавно бежал кросс на три километра. Занял в полку четвёртое место. А те, кому достались первые три места, – поехали домой, в отпуск. Вот так. А мне четырёх секунд не хватило. Всего четыре секунды… Ладно, всё ещё впереди. Я теперь каждый день бегаю понемногу – тренируюсь. Курить бросил. Конечно, нелегко быть десантником, семь потов сходит, письма писать некогда— вот за это уже третий раз принимаюсь. Но десантные войска самые лучшие… Скоро у нас большие учения, готовимся к ним.
Пока ваш сын ещё «салага», через год стану «фазаном», а потом – «дембелем». Вот как просто: два шага – и дома.
Ладно, будьте здоровы, до свидания. Всем от меня привет. Рифкат».
Он ещё подрисовал в том письме свой «портрет». Плечистый десантник с горой мускулов. И рот до ушей. Ещё в школе любил делать смешные рисунки. И там, и в армии стенгазету оформлял. От его рисунков все покатывались.
А теперь уже ничего не нарисуешь… От этой мысли Рифкат очнулся. Ильдус, неподвижно сидевший возле кровати, всё это время не отводил с него глаз. И не сможешь больше ни улыбаться, ни веселиться – после пережитого, отделившего всё прежнее страшной чертой…
Всё прежде было легко и просто: гитара, магнитофон, друзья, шутки… Казалось, всю жизнь будешь таким крепким, здоровым, и шуткам этим, веселью не будет конца. Некогда было остановиться, задуматься хоть на миг, как быстро летит время и что каждая секунда, отстукивающая в этой вот белой палате тупой болью в голове, не повторится… Кому ты будешь нужен? Без руки? Галие? Видимо, он что-то сказал или вскрикнул в забытьи, – Ильдус тревожно склонился над ним, по растерянному выражению лица друга Рифкат понял это.
– Эх, гитару бы сюда сейчас! – сказал Ильдус, пытаясь подбодрить друга, но тут же лицо его напряглось, – какая теперь Рифкату гитара! – И уже по инерции, стараясь не показать виду, что сморозил глупость, он закончил: – Помнишь, как в Нижнекамске у Сашки в больнице под окнами пели?
Рифкат всё видел и осознавал. Чувства обострились, и он замечал каждую мелочь и понимал всё с полуслова.
– Помню, конечно… – Чтоб не обидеть друга, он сделал вид, будто ничего не произошло.
– Я ж тебе не сказал! – загорелся Ильдус. – Позавчера письмо получил из дома: Саня в училище поступил. В морское. В Астрахани его не приняли, а в Одессе приняли! Говорит, по городу в морской форме щеголяет!
– Саша молодец. Такой и адмиралом станет… – забыл Рифкат про боль.
– У него же перелом позвоночника! – не мог успокоиться Ильдус. – Ау тебя что? Только рука да голова.
– Пустяки, – согласился Рифкат. Хоть он и лежит без движения, но чувствует, что в теле бурлит накопленная сила. Как только в ране возникает боль, так все его мышцы натягиваются, как тетива лука. Вот только с правой рукой и головой плохо. Рука ещё куда ни шло – временами ничем не напоминает о себе. А боль в голове не уходит ни на мгновение, только после укола чуть притихнет, как если бы под дождём остывало горящее полено, а потом снова займётся пламенем. Непогасимый огненный вихрь забрался в черепную коробку и неистовствует там, испепеляя мозг. В отчаянии ему показалось, что этот огонь будет полыхать вечно, и боль эта никогда не прекратится. Стараясь заглушить её хоть чем-то, он стал напевать про себя:
Быть солдатом совсем нетрудно,
Если милая будет ждать…
Он видел, что Ильдус растерянно повернул голову к врачу, наверное, решив, что друг его бредит. Женщина в белом халате успокаивающе подняла руку: не беспокойся, всё нормально.
– Сейчас сделаем переливание крови, – убеждал её мягкий голос, – скоро будет лучше.
– А у меня кровь не взяли, – вспомнил и повернулся к Рифкату Ильдус. – Как это, я им говорю, может не совпасть группа? С детства дружим, учились в одном классе, служим теперь вместе, и оба мы татары – да всё у нас одинаковое! Значит, и кровь должна быть одной!
Рифкат не стал поддерживать разговор. Друзья, эта палата, письма домой, слова, что ему говорили, – всё стало безразличным. Он даже не заметил, как, подчиняясь жесту врача, из палаты вышел Ильдус. Рифкат был уже далеко-далеко, шагал, раздвигая ногами сочную зелёную траву, и перед глазами возник бесконечный луг, тянувшийся от Камы до самой дедушкиной деревни.
9
Каждое лето, как только заканчивался учебный год, Рифкат правдами и неправдами перебирался в Ильметь. И в первый же день приезда тащил деда на луг или в лес.
– Потерпи, сынок, терпеливый достигнет цели. Отдохни с дороги. – Харис-бабай отбивает косу на наковаленке, и хоть весь год живёт ожиданием приезда внука, старается не показывать свою радость. – В деревне не любят бездельников, это не то что у вас в городе, по паркам прогуливаться. Вот мы с тобой заодно и сена накосим…
В последний приезд к деду деревня показалось Рифкату особенно дорогой. Может, потому, что скоро в армию и пора прощаться с родной стороной, он стал слишком впечатлительным?
Пока дед налаживал косу, Рифкат успел сходить на речку. Стоило ему приехать в село, как все мелкие заботы, ничтожные проблемы, мучившие его дома, в городе, как будто растворялись в чистейшем воздухе, настоянном на пахучих травах, отступали при виде открытых лиц, огрубевших на ветру. С ним здоровались знакомые и незнакомые: «Младший сын Шавката приехал!», расспрашивали про городские дела, парни вечерами приходили посидеть возле дедовских ворот. А Рифкат жадно впитывал в себя и особую, степенную поступь никуда не торопившихся людей, и сочные, не затёртые их слова и суждения… В городе всё слишком одинаково— асфальт, жалкие деревья, дома. А тут ни один дом не спутаешь с соседним. Дедов дом похож на самого Хариса-бабая: скуластые щёки, сухой, лёгкий… А во-о-он дом напротив напоминает человека с мрачным лицом, глубоко натянувшего кепку, и окна тёмные. А в том, наверное, живут люди с широкой душой: окна в полстены и ворота настежь, когда бы ни глянул.
Рифкат шёл по улице, приглядываясь к домам, пока не оказался на самом краю села. Мир словно посветлел на бескрайнем поле. Всё вокруг полыхало желтизной, только далеко-далеко стрекотал и сползал по склону комбайн, похожий на красного кузнечика. Спелые колосья медленно кивали головками и, кажется, переговаривались друг с другом, как седые аксакалы. Взглянут на красного кузнечика и, точно желая спрятаться, опять наклоняются вниз.
– Хлеба поспели… – вздохнул Харис-бабай, когда они вышли вместе косить. Радовался или сожалел дед, Рифкат не понял. – Эх, будь я чуть помоложе, так бы и прошёлся по всему полю, чтобы вон до той низинки легла полоса…
– Ты что, дедуля, косой собрался косить? Для этого комбайн нужен.
– Косили, бывало, сынок, этой вот косой и не такие луга…
– Те времена прошли, теперь техника работает. Один комбайн тысячу людей заменяет – я в газете читал.
– Э-эх! – усмехнулся Харис-бабай. – Ничего не понимающий в жизни человек написал это. Пирожок он на пуговицах, понял? Не сорвутся такие глупые слова из уст человека, повидавшего жизнь. «Тысячу человек»! – чем больше он говорил, тем сильнее волновался. – Ни черта он не заменяет! Ничто на земле не может заменить человека! – Харис-бабай постукал тыльной стороной косы о землю. И, резким движением стянув слуховой аппарат, сунул его в карман. Когда разозлится, всегда делает так и остаётся во всём мире один-одинёшенек. На этот раз, уже не слыша ничего, он всё не мог остановиться: – Ты посмотри, в селе на одну закрутку и то молодёжи не осталось – все в город сбежали. Дым ваш вонючий нюхать. Если уж так охота— лезь в угарную баню, дыши, раз приятно. В городе что – прочешут язык свои восемь часов, потом уткнутся в ящик этот – телевизор, и гори всё синим пламенем – что здесь у нас поля не убраны, рук не хватает. Ты посмотри, за током у нас целая шеренга комбайнов стоит: некому за штурвал сесть! А этих, командированных, я бы гнал помелом до самого города, откуда их понаприсылали. Лежат себе голяком, загорают – у них, видите ли, обеденный перерыв! Это в такое-то время, когда каждая секунда дорога! Нет, не знают они цену хлеба, цену земли. А один – тоже ещё нашёлся умник, пирожок на пуговицах! «Не горюй, – говорит, – бабай, страна у нас большая, тут хлеба недоберём, откуда-нибудь привезут». А мы побираться не привыкли! – повысил голос Харис-бабай. – Мы вот этой косой да серпом и себя кормили, и другим нашего хватало. А теперь с комбайном возятся до самой пороши, и толку нет. Эх, сынок, сынок, неужели и для тебя хлеб в магазине растёт? Сейчас таких бы, как ты, парней тридцать – враз бы это поле слизнули… Слышь, Рифкат, – останавливается дед. – Может, и вправду в село после армии вернёшься, а?
– Видно будет, – неопределённо ответил Рифкат.
– Что сказал? – Харис-бабай забыл от волнения, что убрал в карман слуховой аппарат.
– Вернусь! – приложив руки воронкой ко рту, крикнул Рифкат.
Сейчас он вспомнил, как потеплели тогда глаза деда и как закивали тяжёлые колосья, как будто тоже услышали и поняли его.
10
Освободившись от своих дум, Рифкат всматривался в потолок, оглядел палату. Врач, по-видимому, вышла. В голове нет колющей боли, только гудит беспрерывно, как будто рокочет комбайн вдалеке.
«Пока никого нет, надо попробовать встать», – решил Рифкат и сделал мучительное усилие, однако с места не сдвинулся. От напряжения ноги будто судорогой свело, всё тело охватила дрожь, мускулы напряглись, только голова не шевельнулась, и ему показалось, что никаких сил не хватит, чтобы приподнять непомерную её тяжесть. От испуга перед этим бессилием он попытался подняться рывком, и сразу же та прежняя боль, свернувшаяся ненадолго в голове, как аждаха[10], воспрянула в нём. Если лежать так же неподвижно, эта боль никогда не исчезнет. «Быстрее, быстрее, – прошептал Рифкат, – только бы избавиться от этой боли…»
Вот он силится встать с кровати, а перед ним строй солдат. Иместо его рядом с Ильдусом свободно, – все его ждут, молча смотрят на него, ловят каждое его движение, и он, преодолевая боль и бессилие, спускается на землю, идёт к своему месту в строю. Но ватные ноги не чувствуют земли, будто он шагает по воздуху. А весь строй кричит: «Ур-ра!» Только почему-то звука не слышно, как будто всё это он видит по телевизору и ручку громкости повернули влево до предела…
Вот над ним склонился Харис-бабай: «Ты ж обещал в село вернуться…» А издалека, со стороны поля, нарастает гул. Всё сильнее и сильнее, разрывая слуховые перепонки.
Рифкат медленно поднимается. Прямо к нему, разрезая надвое жёлтое поле, движется комбайн. Позади пыльное облако, а за штурвалом – никого… И, постепенно преодолевая оцепенение, Рифкат идёт навстречу комбайну…
Вот он дома, на своей кровати, в солдатской одежде, на груди значки. Выходит, он уже приехал на побывку и все домашние рядом с ним – мать, отец, Анфиса… Но в окно с улицы просачивается свет – каждый вечер, вернувшись из школы, он смотрел в окно. Напротив, через улицу, живёт Галия. После того случая её почти совсем перестали выпускать на улицу, и Рифкат сразу почувствовал, хоть до этого и не замечал, как ему не хватает её среди друзей, с которыми он гулял вечерами… Дверь её балкона открыта, – значит, она всё равно выйдет хотя бы для того, чтобы закрыть дверь. Вон за шторами мелькнула её тень, показалось синее платье. И вот она на балконе, прислонилась к перилам и поглядывает на улицу, будто совсем его не замечает… Какой тонкий у неё стан, как мягко и грациозно поворачивает она голову и как блестят её чёрные глаза… Он спрыгнул с подоконника и стал метаться по комнатам, сорвал со стены большое зеркало и, поймав солнечный луч, направил его на балкон… Её волосы, лицо, плечи сразу окунулись в солнечное блистанье, и Галия растерялась, потом поняла и, не сдержавшись, заулыбалась, погрозила пальцем и что-то крикнула. Но звук её звонкого голоса, рассыпавшись, опять не дошёл до Рифката. И тогда он, отведя чуть в сторону зеркало, стал «писать» на стене дома: «Л». Буква получилась такой большой, что едва уместилась на стене балкона. Девушка кивнула головой, показывая, что догадалась, и громко рассмеялась на всю улицу.
«Ю».
Она чуть наклонилась вперёд и немного склонила голову, потому что всё поняла и можно было не выводить дальше буквы. Остальное он дописал быстрее и перевёл луч на её лицо.
«А ты?»
Она закрыла глаза рукой и, неожиданно повернувшись, ушла домой. Рифкат замер на месте, всё в нём ушло глубоко-глубоко. И тут Галия вышла на балкон вновь. В руках было зеркало – чуть поменьше, чем у него, видимо, с комода, – он сразу вспомнил это, хоть был у неё давно и на зеркало тогда вообще не обратил особого внимания.
Она поворачивала зеркало во все стороны, но дом её был в тени, и ничего не получалось. Он видел отчаянье на её лице и вдруг сообразил: направил солнечный луч на её зеркало. Лицо Галии посветлело, и она направила его луч на Рифката. Глаза Рифката сразу заслезились, сердце бешено заколотилось, как будто его насквозь пронизал её отражённый луч.
А Галия смеялась на всю улицу ласковым, смущённым смехом. Как будто луч солнца, соединивший их, рассыпался звонким колокольцем, заполнил всё вокруг. Он не мог не ответить ей и стал тоже смеяться – но яркий день вдруг залило бледным светом, как будто фотографию улыбающейся Галии вытащили преждевременно на свет. И она сразу потеряла чёткие очертания…
«Шприц, – услышал Рифкат чужой голос. – Ещё раз переливание крови!»
Кто-то положил ему на лоб мокрую холодную тряпицу.
– Ничего, одиннадцать таких богатырей дали тебе кровь, значит, победишь…
Рифкат понял, где он, кто говорит и ходит рядом с ним, но всё равно, пока делали укол, а потом долго кололи левую руку, в потухающем от боли сознании билось только одно: яркий солнечный луч и Галия на балконе…
11
И вот ясно пришло то, что он всё это время хоть и смутно, самыми отдалёнными, неприкасаемыми закоулками души, но всё-таки помнил, знал: разодрав тёмное небо, сверкнула молния, разорвалась земля и степь, взметнувшись вверх, поползла в сторону, исчезла в тумане. Сам он, взлетев вместе с ней, завис в воздухе, как будто мир, опадая после взрыва, забыл про него и с каждым неразличимо крохотным мгновением становился всё темнее, даже огненный, ярче солнца, шар потух, и Рифкат начал плавно опускаться куда-то вниз, в бездонную пропасть…
Веки не размыкаются, как будто склеены чем-то. Во рту непереносимая горечь, а солнце жжёт, – он явственно чувствует это, лучи вонзаются в голову, и всё с дребезжанием начинает вращаться.
Пошла крутиться чересполосица снов, отрывочных видений. То он вцепился в пропеллер самолёта и вертится вместе с ним, до разрыва растягиваясь телом; то заблудился в ильметьевском лесу и зовёт, зовёт деда; то сидит под окнами Сашиной больницы и бренчит на гитаре, глядь – а пальцы истёрлись в кровь; то запрыгивает в кабину охваченного огнём трактора и тянет изо всех сил рычаг, а трактор не трогается с места. Пламя охватывает его одежду, руки и ноги, тянется к волосам…
– Воды!
По его губам стекает вода, шея и затылок становятся мокрыми. Сверху, с высоты, излучается бледный, холодный свет, постепенно он собирается в один пучок и превращается в малюсенькую точку, – это лампочка горит над головой.
– Проснулся? – ласково спросил его голос; он так был похож на голос мамы, что Рифкат зажмурился, чтобы ещё хоть на мгновение продлить иллюзию. – И крепко же ты спишь, сынок…
Даже движения её похожи на безостановочную суету мамы вокруг стола, когда они садились обедать всей семьёй… И когда улыбается, глядя сверху вниз… Точно так улыбалась мама, когда подходила к нему перед сном и медленно и ласково поглаживала ему рукой лоб…
Он всё это время боялся думать о ней, об отце, о сестре и брате: сразу на глаза наворачивались слёзы – он ничего не мог поделать. Это у мамы всегда глаза на мокром месте. Всё время плакала, когда провожали его в армию: «Только живым-здоровым возвращайся». Как будто чувствовала. И разрыдалась к концу застолья.
– Мамочка, я ж не на войну ухожу, – обнял её тогда Рифкат.
– Жизнь, сынок, может как угодно повернуться…
– Мам, ну не один же я ухожу, и другие матери так не убиваются.
– Для меня ты на свете один… – Она положила ему на плечи трясущиеся руки и при всех обняла так крепко, что у Рифката перехватило дыхание. Он и не подозревал, что в сухоньком её теле кипела такая сила.
– Брось, Минниса, сок луковый из себя выжимать. Радуйся, что такого сына вырастила. Пусть послужит, лицом в грязь он у нас не ударит, наш род, слава Аллаху, до сих пор Родину не подводил: и в огонь и в воду шёл. – Отец бодро вышагивал от одного конца стола к другому, но Рифкат чувствовал, что и у него временами дрожал голос. – Спой, сынок, нам чего-нибудь, чтобы мать не грустила.
– Что ж это за солдатские проводы без песни?!
Гости подняли весёлый шум, и лицо матери прояснилось.
Рифкат вынес из своей комнаты гитару и встал возле стола.
– Что спеть-то?
– Слушай, Рифкат, брось ты эту дребезжалку.
– Эх, гармошку бы сюда!
– Ладно, родственники дорогие, хоть наши с матерью уши к звукам гитары давно привыкли, но будет вам гармонь. Сынок! Ты ж говорил, разучил одну у дедушки.
– Да ведь не умею я толком, – прислонил Рифкат гитару к стене и неуверенно взял гармонь.
– Давай, Рифкат, не заставляй себя упрашивать.
Когда, бросая взгляды на клавиши гармони, Рифкат заиграл, гости притихли.
Только сидевший в углу стола мужчина порывался что-то сказать, но жена его удерживала. Наконец в тишине он громко сказал:
– А мой в армию не идёт! В институт, говорит, поступлю! – Хвастался он или сожалел, было непонятно.
– Прекрати, ненормальный! – тянула его за пиджак жена.
В этот момент отец Рифката начал петь, и все подхватили песню:
Медный колокольчик подвесив,
Лошадей пустив вскачь,
Вернулся бы я в юность,
Одну тебя взяв.
– Давай, сват, подпевай.
– Что ж ты, сноха, дорогая моя, сидишь, воды в рот набрала, что ли?
– Слушай, сосед, не каждый день парня в армию провожаем, не сиди как сыч!
– А мой не хочет. В институт, говорит, поступлю, – всё повторял мужчина.
Отец с матерью едва успевали подносить на стол. Песня всколыхнула гостей, кое-кто подскочил плясать. Рифкат не умел играть плясовую и прерывисто, в такт стуку каблуков, растягивал меха, но никто не обращал на это внимания. Пока мужчины плясали, женщины на другом конце стола разговаривали, перебивая друг друга.
– Сын Марфуги из армии вернулся – высокий, здоровый, чистый гренадер!
– А ведь всё время за подол матери держался.
– Бибинур от парня своего письмо получила. Остаюсь, пишет, макаронником. Поваром, наверное, устроился, солдат кормит…
Мужчина на краю стола всё ещё сокрушался, что сын не идёт в армию, и оттого, что его не слушают, всё больше мрачнел. Вскоре гармонь уже была не нужна: слаженным хором затянули «Порт-Артур», «Дранчу», «Баламишкин», – все народные песни были перепеты.
Гости начали расходиться по домам в полночь. Рифкат прощался с каждым в отдельности. Сдержанные, молчаливые дядюшки расчувствовались: обнимали новобранца, который краснел и топтался на одном месте.
– А мой не идёт… – снова говорил мужчина, тиская руку Рифката.
– Да уйдёшь ты отсюда когда-нибудь, надоел всем! – не выдержала его жена. – В гости нельзя прийти – нажрался, как корова на озими!
– Тс-с, жена! – сквозь слёзы прошептал он и погрозил ей пальцем. – Амой парень не идёт…
– Да прекрати ты, ненормальный, слышали это уже все! Не всем же в армию идти!
– Я ненормальный?! – взревел мужик. – Не я, а сын наш ненормальный! Размазня и мямля он! И всё благодаря тебе – ты над ним сюсюкала! Когда я в армию уходил – всё село провожало. Всё село! Лошадь на Сабантуе первое место заняла – мне её запрягли, с бубенцами, с полотенцами… Будь моя воля – ещё раз бы пошёл, эх…
При последних словах он уже хрипел, сдавленный крепкими руками жены, а когда она вытолкнула его за дверь, оттуда донёсся его пьяный голос:
Медный колокольчик подвесив,
Лошадей пустив вскачь…
Когда гости разошлись, дом внезапно примолк, затих.
Рифкат не находил себе места, слонялся по квартире, включил магнитофон.
– Сынок! – позвала мама из кухни. – Запиши нам свои песни. Соскучимся – послушаем.
– Вам некогда будет скучать обо мне.
– Как ты можешь говорить такое?!
– Ну ладно, завтра запишу. Мам, давай я тебе помогу посуду помыть.
– Нет, сынок, не мужское это дело.
– О, – удивился Рифкат, – всю жизнь убирал – ничего.
– Ты, сынок, до сих пор мальчиком был, а теперь стал мужчиной… – Мама вышла из кухни и, прислонившись к косяку, посмотрела на него грустными глазами.
– А теперь, мама, всё равно – мужчина или женщина.
– Тогда почему Анфису в армию не берут? Нет, сынок, настоящему мужчине всегда найдётся мужское дело…
К окнам отдалённым тусклым светом медленно приблизилась заря. Из соседней комнаты чуть слышно доносилось тиканье часов.
Через сутки его не будет здесь.
Часы всё тикают, отстукивая секунды. Тик-так. До сих пор он не придавал значения этим секундам: какое огромное множество их уже натикали ему эти часы… А он ещё ничего и не видел, ничего и не понял в жизни. В детстве смотрел на старые ходики как на таинственную игрушку, потом замечал, сколько осталось минут до начала занятий, успеет ли добежать до школы… И только теперь понял, что они отсчитывают то, что нельзя ни объяснить, ни остановить: время.
Тик-так.
И мать с отцом не спят. Через открытую дверь доносится их приглушённый разговор.
– Может, до Казани проводишь, Шафкат?
– Не говори ерунды. Люди смеяться будут, что он, маленький, что ли?
Мать промолчала, но не могла остановиться:
– Только бы не обижали его там. Очень уж мягкосердечный он. Не из тех, кто коршуном набрасывается на обидчиков…
– Не говори так, мать. В тихом омуте черти водятся. Он же в деда пошёл…
– Там кровати, говорят, двухъярусные, – всхлипнула мать. – Попадёт наверх, свалится ещё…
Отец тихонько рассмеялся:
– Может, ты ему соску в чемодан положишь?
– На сердце у меня неспокойно, Шафкат. То ли потому, что младший сынок, никак отрывать от себя не хочется.
Ответ отца Рифкат не разобрал.
– Уж такой добрый и внимательный. Что ни попроси, всё готов был сделать…
– Был да был, – вспылил отец, – не о покойнике же разговор ведём…
– Типун тебе на язык, такие слова говорить, – перепугалась мать и всё не могла успокоиться. – Близнецов растить трудно, говорят, а этих даже легче, чем одного ребёнка. И Анфиса – тоже очень отзывчивая, ни в чём матери не отказывает… Шафкат, только вот говорят, один из близнецов долго не живёт, правда ли это?
– Тьфу! Ты такое, бывает, сморозишь, что… Или, пока я отвернулся, попробовала со стола чего-нибудь из этих напитков шайтана[11]?
– Да я что-то совсем запуталась…
– Спи, спи, – ласково успокоил её отец, – нечего зря убиваться.
Мать тяжело вздохнула и притихла, но даже сквозь стену Рифкат чувствовал, что они не могут заснуть и, глядя в потолок, в предрассветной полутьме думают об одном и том же.
Утром он очнулся от смеха Анфисы:
– Подъём! Вставай, вставай, солдат. Казарму надо убирать. Пошли паласы трясти!
На лестнице Рифкат состроил ей смешную рожицу, но она так и не догнала его, хоть бросилась вслед, перепрыгивая через две ступеньки. Отойдя чуть в сторонку от играющих в песочнице ребятишек, они растянули за концы палас и стали с хлопаньем вытряхивать пыль. Рифкат резко дёрнул за свой край, и Анфиса выпустила палас из рук.
– Как же ты будешь паласы трясти, когда я уеду? – притворно опечалился Рифкат.
– Не бойся, одну сторону к столбику привяжу.
– Так ведь столбик твой тоже в армию собирается…
Анфиса вспыхнула и от неожиданности не нашла, что ответить.
– Дурак ты… Я лучше невесточек позову.
– Это ты про кого? – удивился Рифкат.
– Про кого… – передразнила его Анфиса, – про Галию твою и Альфию…
– А… Сразу обеих?
– Да.
– Пусть поработают, мне-то что!
– Если бы тебе не было что, ты б не сидел, как кот бухарский, весь день на подоконнике, – выпалила Анфиса; её всегда раздражал снисходительный тон брата, который был старше на несколько минут. – Ты лучше скажи, на ком ты всё-таки остановил свой выбор?
– На той, которая будет писать мне письма каждый день и ждать меня. «Быть солдатом совсем не трудно, если девушка будет ждать», – пропел он сестре.
В последний день перед отъездом у них собрались друзья, одноклассники. Отец с матерью, чтобы не мешать, хотели переночевать у родственников, но неудобно было вот так взять и уйти, когда сыну назавтра в армию. И они забились в комнату Рифката.
Через стенку доносились голоса. И разговоры, и шутки у молодёжи другие. Эти не смакуют, как вчерашние гости, каждое слово, а высказываются откровенно, такое, бывает, ляпнут прямо в глаза, что хоть под стол прячься. Если уж запоют, то стёкла в окнах дрожат, а не бубнят себе под нос. И Рифката родители не могут узнать: обычно слова лишнего не вытянешь, что ни скажи – улыбается и молчит, а тут в центре внимания, во главе застолья. То пошутит – и девушки закатываются от хохота, то ребят растормошит, то на гитаре бренчит, то запоёт.
Отец не вытерпел, прошёл через комнату в коридор, будто бы по делу. Рифкат про себя усмехнулся: проверяет, конечно, очень уж расшумелись, нет ли чего на столе такого…
– Запевай! – старается перекричать все голоса Рифкат. Но его не слышат. Тогда он берёт в руки гитару, и гости постепенно затихают.
И в огонь мы ещё войдём,
Мы поднимемся ещё в небеса.
Быть солдатами для нас нетрудно,
Если согласятся девушки ждать.
Перед уходом гостей Рифкат позвал Рустема в свою комнату; мать с отцом уже суетились на кухне, убирая посуду.
– Возьми, Рустем, – произнёс он, протянув другу шапку. – Мне всё равно не нужна.
– Не мели ерунды. Вернёшься – в чём будешь ходить?
– Вот вернусь, тогда ещё лучше куплю. А ты носи, пока я служу, и помни меня.
До рассвета они бродили по улицам Нижнекамска, слушали гитару, пели песни.
Когда Рифкат и Анфиса, стараясь не шуметь, на цыпочках вошли в дом, из кухни донеслось шипение сковороды, запахло блинами.
– Вернулись, полуночники? – вытирая измазанные мукой руки, навстречу вышла мать. – А где пиджак? – испугалась она, увидев, что сын в одной рубашке. – Хулиганы сняли?
– Да не волнуйся ты, мама. Отдал я его.
– Кому?
– Тебе, мама, обязательно надо всё знать! – пришла на помощь Рифкату Анфиса.
– Да ведь не пиджак жалко, он и узковатый уже тебе. Но пусть бы ждал тебя. Чем больше вещей ожидает человека, тем быстрее возвращается он домой. – Мама ещё хотела что-то сказать, но горло перехватило, быстро повернувшись, она ушла на кухню и вынесла тарелку, полную дымящихся блинов. – Ешьте, проголодались, поди…
Рифкат схватил верхний, самый аппетитный блин, и пальцы тут же охватило огнём.
– Горячо…
– Что ты говоришь, сынок?
Рифкат открыл глаза. Нет никакого дома, ни мамы, ни блинов. Только пустые стены да белый-пребелый потолок.
12
– Что горячо? Голова?
Рифкат узнал голос врача, и действительность навалилась на него такой непереносимой ясностью, что он отдал бы всё, только бы снова вернуть это: Анфиса, рядом мать. И дымящиеся блины на тарелке в её руках…
Врач в углу палаты перекладывала инструменты: возьмёт один, вытрет ватой и кладёт на что-то металлическое… Так же вот возилась на кухне мама, досуха вытирая ложки и вилки.
И вдруг он понял, что если бы мама была сейчас здесь и он хоть на мгновение прижался бы к ней раскалённой, как шар, головой, боль, сжигавшая его мозг, утихла бы от прикосновений её рук, растворилась в чистом запахе её волос, который он не спутал бы ни с чем на свете, в тихой ласке её родного голоса.
До чего ж, кажется, просто устроен этот мир. Человек рождается, растёт, мечтает совершить что-то великое и неповторимое, обретает друзей и недругов, отдаёт столько времени и сил суете – и вдруг умирает. Почему же не вечен человеческий род? Даже ворона, у которой нет никакой цели, никакой мечты, даже самая простая ворона живёт сотни лет. Хотя, не будь смерти, жизнь, может быть, потеряла бы свой вкус. Кроме того, человек должен чего-то бояться. Зная, что конец неизбежен, пытается он побыстрее свершить необходимые дела, домечтать положенные мечты. А если бы был вечен, лежал бы себе и плевал в потолок. Ведь лентяй не верит и в смерть. Но она и не требует такой веры. Она безжалостна… Как бандит, подстерегает в неожиданном месте и впивается в горло…
«Если бы только эти лекарства могли мне помочь, – думал Рифкат, – ведь медицина сейчас на таком уровне! Сердце чужое пересаживают… Но голову-то не пересадишь… Нет-нет! Мне нельзя умирать! В село обещал вернуться, маме, папе, всем-всем сказал, что вернусь, – и что же, как я могу не вернуться? Саша позвоночник сломал – и теперь моряк, старший брат Азат с крыши пятиэтажного дома упал и то жив остался. А почему мне не выздороветь? Ведь ещё ничего не успел сделать. Когда вернусь, слесарем не возьмут: руки-то, наверное, нет… А как поздороваться с Галиёй? Разве что просто обнять. И как она вообще отнесётся к тому, что я без руки? Написал Талгату, что поступлю в техникум… Ладно, это не убежит, никуда не денется.
Взять и уехать в село, к деду. Там никто внимания не обратит, что без руки. Вон хромого дедушку никто за инвалида не считает: наравне со всеми работает, как вол. И никто над ним не сюсюкает: ах, бедненький! А насчёт техникума… Только бы поправиться, там видно будет. Можно в заочный поступать. Если захотеть, не хуже других можно и заочно учиться. Ох эта учёба… Каждый вечер мать смотрела дневник и вздыхала. Смотрит и вздыхает… Лучше бы уж ругала».
В спорте Рифкату не было равных в школе, у него было много друзей, все относились к нему с добротой и уважением, но готовить каждый день уроки— это мука. На завтра откладывал, потом на послезавтра, к концу четверти чувствовал, что дела аховые, и день и ночь не поднимался из-за стола. Даже в десятом классе по-настоящему сел заниматься месяца за два-три до экзаменов. Тогда мать стала пилить его каждый день: «Помешался на гитаре этой, на магнитофоне, ни на что, видать, не способен, только по улицам шататься!» Она сказала это без крика, с такой горечью, что Рифката проняло: обложился книгами.
– Зимний штурмом решил взять? – посмеивалась Анфиса. У неё-то не было никаких проблем с учёбой, и она часто выручала его на контрольных.
– Ты знаешь, чем эта история с Зимним закончилась? – Рифкат даже не оторвал при этом взгляда от учебника.
– Ну-ну, поглядим, поглядим, чем она у тебя закончится.
Рифкат перестал выходить на улицу, почти не спал, осунулся и похудел. А когда вылетел из класса, где сдавали экзамены, заорал на весь коридор побледневшей Анфисе:
– Взяли Зимний, взяли!
– Трояк? – переспросила Анфиса, чтобы убедиться, что всё прошло благополучно.
– Четыре! – захохотал Рифкат и закружил сестру.
Лицо её засветилось от счастья. Обычно они не проявляли родственных чувств друг к другу, наоборот, подбрасывали колкие замечания и беззлобные, едкие шуточки. Но тогда он вдруг ощутил, какой близкий и родной человек его сестра. Он с детства привык к ней, как к воздуху, к небу, – и не замечал, не понимал, как это здорово, что есть человек, который во всём, о чём ни попроси, поможет и всё поймёт. Так же, как не замечал, как в небе передвигаются пуховые облака, как течёт Кама и какое это счастье – жить на земле…
После экзаменов и выпускного вечера на Рифката навалилось безразличие. Целыми днями он лежал на диване и раздумывал: что делать дальше? Анфиса уговаривала его поступать в институт – как, мол, в наше время необразованным оставаться? Отец помалкивал, выжидал… А Рифкат как только представлял себе, что надо будет снова засаживаться за узкую парту или за студенческий стол и высиживать от звонка до звонка, так грустнел, ему становилось не по себе. Внутри играла и била через край сила… Он видел однажды у деда, как молодой жеребец отделился от табуна и мощным, неудержимым намётом носился по степи, как будто хотел наиграться всласть перед хомутом и оглоблями… Но чем больше Рифкат лежал на диване, тем прочнее и отчётливее проступала в сознании одна мысль, которой он не мог поделиться даже с Анфисой. Ему доставляло неизъяснимое удовольствие слушать, как мать с отцом, едва только соберутся вместе за столом, так сразу начинают перебирать варианты его будущей судьбы: «Кем же станет наш сынок, где он устроится?» В таком неведении они пребывали до начала августа, пока Рифкат не решил прервать их бесконечный спор…
– Мама, я записался в строительно-монтажное управление, – сказал он однажды, с удовольствием уплетая поджаренное мясо. – Учеником слесаря.
Мать застыла с тарелкой в руках, и Рифкат принялся быстро-быстро объяснять, как будто оправдываясь:
– На будущий год всё равно в армию идти. Хоть делу настоящему научусь до этого. С первой же получки тебе подарок принесу – во! – И он развёл руки, как будто размеры будущего подарка могли успокоить её больше всего.
– А что, – вмешался отец, – слесарь – хорошая специальность. Руки у парня к железу приспособлены.
– Но… – хотела было возразить мать.
– А из армии вернусь, сразу же учиться поступлю, – перебил её Рифкат. – А пока запишусь в рабочий класс. Ты же всю жизнь на шахте вкалывала, и ничего. Все тебя уважают. – Рифкат обрадовался неожиданной поддержке отца и сразу повеселел.
– У нас, сынок, другое время было, не до учёбы. А теперь зачем тебе на работе спину гнуть, когда и поучиться можно?
– Эх, мама, генетика, знаешь, что говорит? Что каждый человек кого-то из предков повторяет. А наш род – это род извечных хлеборобов, трудяг. И тут ничего не попишешь: закон природы! – Рифкат поднял вверх палец и незаметно подмигнул Анфисе.
– Закрутил словами. Правду говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Ведь до чего ж ты похож на…
– Старика Миргазиза, – заключил отец.
13
Рифкат пришёл в себя, и воспоминания исчезли. В вечернем мягком свете солнечные лучи поостыли, и вся палата словно потускнела, уменьшилась в размерах. Неподвижность тела, пронизанного болью, была невыносимой, и он придумал очень интересную игру: закроет глаза – и тут же оказывается среди родных, знакомых, разговаривает с ними, отводит душу, и боль становится чужой, отдалённой завесой тумана. А стоит открыть глаза – снова перед ним белый потолок.
Он так увлёкся этой игрой, что перестал отдавать себе отчёт в том, кто заходит к нему в палату, о чём говорят врачи, даже не обращал внимания на уколы… Скорее закрыть глаза и снова оказаться в чудном мире воспоминаний, где нет людей в белых халатах, слабо горящей лампы на потолке и тех страшных мгновений, когда он сжимал изо всех сил гранату… И – удивительное дело! – мир этот вставал перед глазами настолько отчётливо, что казался более реальным, чем всё окружающее его сейчас…
Вот их казарма. Двухъярусные кровати ровненько выстроились возле стен. Книги на тумбочках. А у него в ящике – красный блокнот с адресами друзей, стихами, песнями. Каждый вечер, прежде чем лечь спать, Рифкат перелистывал его. Как только прибыл в часть, стал записывать туда всё интересное и важное. На первой же странице красными чернилами выведено: «Солдат в любом случае обязан выполнить поставленную перед ним задачу, даже рискуя жизнью, должен выручить товарища. Умереть, но выполнить приказ Родины». Он выписал эти слова из какой-то книги, готовясь к политинформации. А внизу страницы нарисовал эмблему десантников.
Как тихо в казарме. Только иногда переступит с ноги на ногу и вздохнёт дневальный. В глубине, возле уголка живой природы— воссозданной руками ребят лесной полянки – замер телевизор… Оказывается, он успел привыкнуть к своей казарме, как будто это его родной дом.
«Я – гражданин Советского Союза, Миргазизов Рифкат…» Его называли учеником пятого, восьмого, десятого класса, на соревнованиях – спортсменом, в деревне – сыном Шафката. И вдруг – гражданин Советского Союза. Он только тогда почувствовал огромный смысл этого простого слова: «гражданин…»
После присяги весь строй повели в музей части. На аллее возле музея— стела с вырезанными барельефами двенадцати Героев Советского Союза, воевавших в составе части. Седой подполковник подробно рассказывал об их подвигах, о том, как реяло знамя полка над Берлином… А потом их подвели к освещённому стенду. Двое парней в такой же, как у Рифката, форме, смущенно улыбались с больших фотографий. Внизу крупные буквы: «Гвардии старшина Савченко Анатолий Иванович, 1953 года рождения, член ВЛКСМ, специалист первого класса, отличник Советской Армии.
Гвардии старший сержант Котло Виктор Владимирович, 1954 года рождения, член ВЛКСМ, специалист первого класса, отличник Советской Армии.
За большие успехи в военно-политической подготовке, высокое военное мастерство и за героизм, проявленный при высадке техники тяжёлого воздушного десанта, комсомольцы Савченко А. и Котло В. награждены орденом Красной Звезды».
Они были старше его на каких-то два-три года. И – ордена… Вмирное-то время, когда жаворонки щебечут… Конечно, в армии всякое бывает: и из автоматов стреляют, и гранаты бросают, и пушки грохочут. Танки и самолёты настоящие, как на войне. Но всё-таки это ведь не война, о которой Рифкат читал в книгах, которую он видел в кино и знает по рассказам деда, а только игра, пусть большая и нужная, но всё же игра. Как в детстве, когда он так заигрывался с ребятами в войну, что уже в темноте на пустыре за домами матери разыскивали их…
Он так явственно вспомнил улыбающиеся лица ребят на фотографиях, новенькие ордена на гимнастёрках…
14
Рифкат очнулся от громкого стука раскрывшейся двери. До сих пор она открывалась беззвучно. Круглолицый седой толстяк во главе небольшой группы людей в халатах стремительно подошёл к постели Рифката:
– Это и есть наш герой? Что, немного поцарапало? Сейчас посмотрим… – Он говорил таким тоном, будто ни минуты не сомневался, что эти люди в белых халатах ввели его в заблуждение, и хотел убедиться сам, насколько дела плохи. И вдруг Рифкат поверил ему, несмотря на грубоватый голос, неуместный хохоток и мясистый нос, так не вяжущийся с обликом врача. Да его и врачом было трудно назвать – точь-в-точь повар из городской столовой.
– Да, порядком тебя зацепило, парень. И не догадался же ты что-нибудь другое подставить, голову беречь надо.
– Только трус, товарищ полковник, задом в воду прыгает, – сорвалось у одного из сопровождающих.
– М-да, хоть задом, хоть головой, лишь бы живым выплыть… – негромко, раздумывая над чем-то, произнёс врач и обратился к Рифкату: – Не волнуйся, теперь всего ничего осталось. Всякие ерундовые мысли выбрось из головы. Смотри мне, чтобы ни одной не осталось. Я в неё загляну, выброшу оттуда железяки всякие и – раз, захлопну. Не почувствуешь даже. Ладно, готовься, друг, а мы пошли.
Улыбка у него была неожиданная, – пухлое лицо сразу освещалось добротой.
Рифкат услышал только как заскрипел под ногами пол, и силы его покинули.
«Загляну и захлопну», – сказал толстяк, как будто это шкатулка с пуговицами. У Анфисы была такая, с ракушками на крышке. И все, кто с ним говорит, обязательно шутят. Но так ли уж всё легко и просто? Рифкат знает. Даже зубы ноют от боли, – видимо, лекарство перед ней бессильно. И мутит так, что он едва сдерживается.
И тут Рифкату так захотелось вдохнуть хоть раз чистого воздуха за окном, вырваться из этих белых стен. Но окно было плотно закрыто. И врач вышла куда-то. Наверное, вымоталась с ним за это время: сидит возле него, только смотрит печальными глазами. Интересно, сколько же прошло времени? Сквозь кусты жёлтой акации за окном виден поалевший небосвод. Солнце уходит за горы. Значит, прошли уже сутки. А ему кажется, что прошли уже месяцы, годы. Для всех больных время идёт медленно и всё вокруг кажется дурным сном. В больнице люди торопят каждое мгновение, чтобы побыстрее пришло будущее.
А для него эти сутки – и неизвестно, сколько их ещё будет, – как водораздел. С одной стороны, девятнадцать лет беззаботной, радостной, как чистый родник, жизни, с другой – крутой склон или, может, пропасть… А он стоит на вершине горы лицом к прошлому и боится повернуться, чтобы не увидеть там бездонный обрыв… Боится, что закружится голова и он полетит вниз, сшибая камни… Только бы удержаться на этом каменном острие, где каждое мгновение может стать роковым и каждое движение – последним…
Выдержать, пусть вгрызаясь в камень ногтями, но выстоять и не сдаться!
Самое страшное – нельзя вернуть те минуты, которые отделены какими-то сутками от настоящего, нельзя повернуть ничего назад. Уже закончились учения, и ребята уже в казармах.
И ничего не вернуть…
Не зря же врач предупредил: нельзя мучить себя ерундовыми мыслями! Надо думать о чём-то хорошем, приятном. А есть ли на свете что-нибудь более приятное, чем раскрывшийся с резким хлопком купол парашюта над головой после того, как ты прыгнул из самолёта?..
И самое главное: даже если всё вернуть и заставить время течь вспять, разве ты не поступил бы так же?..
15
В первые мгновения после прыжка из люка он плотно зажмурил глаза, чтобы уберечься от бешеного напора ветра. Его болтало и крутило, пока он не раскинул руки. Открыв глаза, он увидел большой круг внизу, напоминающий тарелку. Рифкату сначала показалось, что это не он падает, а огромная тарелка с озёрами, реками, лугами и редкими тёмными пятнами леса летит на него. Вот неожиданно сбоку показалось солнце, и золотисто-жёлтые лучи залили всё безграничное пространство. Фиолетовый купол был так раздут плотным воздухом, что казался прочным, как шатёр из жести. Весь небосвод в этих фиолетовых куполах.
Ангелу подобно с неба спускается он
И, как дьявол, входит в бой… —
заорал Рифкат от восторга, задохнулся смехом и свистящим воздухом… Сегодня ему и вправду придётся крутиться, как чёрту. Рифкат левой рукой нащупал автомат. Земля уже приняла обычную форму. Внизу бескрайняя зелёная степь. Как осколки зеркала поблёскивают маленькие озерца. Земля не успела высохнуть после двухдневного дождя. Рифкат посмотрел вверх: солнце едва успевало прорваться сквозь решето забитого парашютами неба. Когда они спустятся, на земле не останется места.
И вдруг с запада подул холодный ветер, как будто предостерегая, что ждёт их на земле. Чем ближе она становилась, тем больше усиливался ветер. На высоте двести – триста метров он уже неистовствовал, дёргал парашют, как будто пытаясь погасить купол. Луговая зелень потемнела, зеркальная поверхность озёр покрылась рябью. «Учения будут проводиться в условиях, приближённых к боевым», – сказал командир, но бурю уж никто не ожидал…
Солнце совсем скрылось. Со стороны горизонта густо подползали чёрные облака. «Как будто заходят в тыл», – подумал Рифкат и посмеялся своим мыслям. Но тут он увидел землю совсем близко и, приготовив автомат, нажал на спусковой крючок. Кто-то успел выстрелить до него, в небе послышалось мощное: «Ур-ра!» И в этот момент ноги коснулись земли.
Рифкат, пружиня в коленях, мягко присел, но одна нога угодила в ямку и тело покачнулось, из-под сапог брызнула грязная вода. Однако Рифкат не упал. Перебросив в левую руку автомат, он смахнул с лица илистую воду и потянул к себе трепыхавшийся купол. Ветер потянул парашют, окуная белый шёлк в грязную воду. Рифкат торопливо отстегнул парашют, и, как будто обидевшись, купол складками опустился на землю. А Рифкат уже забыл о парашюте— разрезая порывистый ветер, он бежал вперёд.
Скоро батальон замер в строю на месте сбора.
– Молодцы! – Командир – в таком же, как у всех, берете – оглядывал лица, не пропустив ни одного. – Теперь наша боевая задача: «враг» наступает с юго-запада. Наш батальон атакует его в лоб. Цель – захватить командный пункт «противника»…
Через несколько секунд, поглубже надвинув береты, десантники уже бежали по бесконечному кочковатому полю. Ветер сильными порывами толкал тело назад, пронзительно свистел в стволе автомата, выдавливал на глазах слёзы. Под ногами было так скользко, что едва можно удержаться, сапоги чугунные от прилипшей глины. Вдобавок прямо в лицо стал моросить дождь.
После утреннего великолепия этот дождь и низкие тучи казались такими неуместными, невозможными. Наверное, природа, собираясь подарить людям чудный день, увидела самолёты, белые купола парашютов, закрывших небо, рассердилась на человека за бесцеремонное вторжение в её царство и принялась мстить…
Солдаты цепью разбежались в стороны. Командир бежал рядом так, будто уже не отмахали несколько километров, подбадривал шутками отстающих и успевал резким, требовательным голосом крикнуть: «Цепь не разрывать!»
Рифкату выпало бежать по просёлочной дороге, из-за движения танков и машин превратившейся в топкую кашу: местами едва не скрывало голенища. Командир молча подстраивался к нему и некоторое время бежал рядом, как будто давая понять, что понимает, насколько ему сложнее, чем другим.
Потом командир резко брал в сторону, отдалялся позади цепи на самый край, будто оставлял Рифката вместо себя. За несколько дней до этого командир собрал несколько наиболее выносливых и физически развитых солдат, в том числе и Рифката, и сказал: «Вы в полку и в физическом и в моральном отношении, короче, со всех сторон, самые подготовленные солдаты. Во время учений старайтесь всех увлечь за собой, быть там, где труднее. Для десантников главное – физическая сила, выносливость, умение не растеряться в любых условиях, быстро ориентироваться в любой ситуации и не падать духом. Я в вас верю!»
Ноги горели как обваренные, от тел шёл пар. Бежали уже около часа. А впереди – никакого «противника». Наконец раздалась команда: «Стой! Пятнадцать минут на отдых!» Но вокруг – бескрайняя степь: ни деревца, ни кустика, чтобы прислониться, схорониться от ветра, приткнуть голову. Пронизывающий до костей ветер, секущий голую степь безжалостный дождь.
– Иди сюда, поставим палатку! – позвал Рифката Володя Ищенко. У него такие раздувшиеся щёки, как будто держит за щеками по яйцу. Может быть, оттого, что Володя играет на трубе? По крайней мере, это их сблизило и они хорошо понимали друг друга, и не только когда устраивали импровизированные концерты дуэтом: Володя заливается на трубе, Рифкат бренчит на гитаре.
Волоча сапоги с налипшими пудами глины, Рифкат подошёл к Володе:
– Пока мы её на этом ветру поставим, перекур закончится!
Володя не возразил, расстелил палатку на земле и, присев, накрылся краем брезента. Рифкат сделал то же самое. Но ветер не дал им спокойно отдохнуть: то сбрасывал палатку с головы, то хлестал по лицу дождём. Пока бежали, тела были мокрыми от горячего пота, но вскоре от пронизывающего ветра зуб на зуб не попадал. Поэтому команде «Поднимайсь!» Рифкат даже обрадовался. Ноги затекли так, что лучше было размять их в беге.
Он вернулся на своё место. Под ногами та же серая лента дороги, подрагивающая вязкая глина, в лицо – всё тот же хлёсткий ветер…
Сколько прошло времени, он не знал. В мире осталась только хлюпающая топкая жижа под ногами и он сам. Один на один…
Когда Рифкат поднял голову, то увидел, что неподалёку быстро идут куда-то генерал – командир дивизии, командир полка и старший лейтенант Киреев… Всю усталость Рифката как рукой сняло, и, скидывая глину на ходу, он побежал быстрее. От своих он за это время почти не отстал…
8
На татарском языке слово «здравствуйте» звучит как «исәнмесез», что дословно переводится как «живы ли вы?».
9
Здесь и далее стихи и песни даются в подстрочном переводе.
10
Аждаха – дракон (миф.).
11
Шайтан – дьявол, сатана