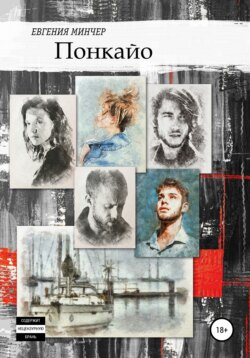Читать книгу Понкайо - Евгения Минчер - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть вторая: Наши судьбы
Глава 1
ОглавлениеОтец Лолы погиб дождливым весенним вечером 2001 года в автокатастрофе с участием пяти машин. Не прошло и трех дней после похорон, как ее мать Луиза была вынуждена вернуться на работу. Она занимала одну из ведущих должностей в крупной рекламной фирме и не могла надолго покидать свой пост. Лола отказалась от предложения родительницы «посидеть дома недельку или две», но не стала уточнять, почему. Было невыносимо находиться в квартире одной. Тягостные воспоминания бродили по пятам, комнаты опустели и наполнились таким холодом, что хотелось забиться в угол и без конца плакать. Лола задерживалась в школе, сколько могла, делала уроки в библиотеке, а оставшиеся два-три часа бродила по улицам в гнетущем состоянии, не замечая слез, не обращая внимания на прохожих, которые глазели на нее и гадали, что у нее могло случиться. Домой она возвращалась аккурат к приходу ничего не подозревающей матери. Чтобы не тревожить родительницу и не обременять ее своими страхами, Лола держала свои отлучки в тайне.
В один из таких дней полугодом позднее Лола познакомилась с привлекательным и располагающим на вид парнем девятнадцати лет с красивым звучным напевом вместо имени: Валентин. Месяц переписки по «аське» развился в отношения, первые отношения в жизни шестнадцатилетней девушки. Лола больше не чувствовала себя одинокой. Валентин представлялся ей милостивым подношением судьбы в награду за все лишения. Он так тревожился за нее, так близко принимал к сердцу ее горе! Ему было невыносимо видеть ее подавленной и разбитой, это причиняло ему боль. Горькие излияния Лолы о покойном отце заставляли его страдать. «Я не умею утешать и оттого чувствую себя никчемным и беспомощным». Лола не хотела делать его несчастным и вскоре перестала заговаривать при нем о покойном родителе, но знала, что он сочувствует ей и все понимает.
Валентин был очень романтичен. Он сочинял стихи в ее честь и торжественно их декламировал, без стеснения припав на колено где-нибудь в парке. Он целовал ее руки, любовался ею и сравнивал с красавицами прошлых эпох, которые вдохновляли «безнадежно влюбленных менестрелей». Он говорил, что ее полуопущенные от природы веки придают взгляду томное выражение и эта изюминка сводит его с ума. Лола с трепетом наблюдала за пылающим в его глазах огнем страсти. «Ты красива всегда, но прекраснее всего, когда в хорошем настроении». Лола знала, как Валентин огорчается, если ее одолевает скорбь, и старалась в его присутствии вести себя так, чтобы он был доволен и счастлив. Тогда он становился воплощением нежности, очарования и любви, тогда он боготворил ее и Лоле казалось, что она единственная на свете. Только в эти минуты она чувствовала себя нужной, живой.
Такие особенности, как, например, колкий взгляд, которым Валентин пронзал девушку, стоило ей просто так, без всякого умысла, посмотреть на встречного парня, или необъяснимая детская обидчивость, когда он молча супился, пока она не рассыпалась в извинениях, или вовсе пропадал на несколько дней, казались Лоле отличительными чертами его характера. Он высказывался бурно, не помня себя, однако для Лолы это было еще одним доказательством сильного чувства. Она принимала это наравне с хорошими качествами Валентина, какими для нее были его глубокая эмоциональность, чувственная ранимость, красивый слог и, самое главное, пылкая любовь, которую он подкреплял признаниями столь изысканными и проникновенными, что Лола с легкостью прощала все сцены ревности.
Лола пыталась вылечиться этой любовью, как целебным снадобьем, и сперва ей казалось, что у нее получается, но со временем пылкие заверения Валентина утратили прелесть новизны и силу воздействия. Едва Лола оставалась одна, как на нее набрасывалась такая гнетущая скорбь, что было трудно дышать. Лола плакала часами напролет, но не могла позвонить Валентину и обратиться к нему за утешением. «Лично я считаю, что в отношениях каждый должен справляться со своими трудностями самостоятельно. Эгоистично переносить на другого человека свою боль. Тебе полегчает, но ему станет плохо». Лола помнила, как согласилась с ним. Он не ставил в пример ее собственное горе, выражался абстрактно, однако девушка понимала, что речь о ней, ведь он сам не раз говорил, что ее слезы надламывают его. И она страдала в одиночестве, страдала и не понимала, как можно быть такой несчастной, когда у тебя есть любимый человек. Еще совсем недавно Лола чувствовала себя самой желанной и необходимой – теперь ей казалось, что она самая одинокая на свете. Лола жаждала единения со своей названой половинкой, хотела излиться ей в своем горе, но была вынуждена держаться на расстоянии, точно инфицированная.
Постепенно Лола стала замечать странности в поведении молодого человека. Стоило им перешагнуть в отношениях определенный рубеж и перенести встречи на его квартиру, как все изменилось. Первым тревожным сигналом для Лолы стала россыпь мелких шрамов у него на руках, которую он прятал под длинными рукавами. Она спросила Валентина – тот свалил все на задиристого кота своего сокурсника. Однако от девушки не ускользнуло, как потемнело при этом его лицо, а глаза вспыхнули электрическими искрами.
Дальше стало хуже. Посыпались замечания касательно непристойного внешнего вида Лолы и ее пристрастия к украшениям, хотя на деле она не вылезала из джинсов, а из украшений носила только сережки, да и те обычные «гвоздики». Валентин ревновал девушку к рисованию, объясняя это тем, что оно якобы отвлекает ее от мыслей о нем. Чувственный взгляд и обиженный тон растрогали девушку, и последующие резкие высказывания Валентина о художниках и «художествах» в целом Лола посчитала отголосками этой ревности и не придала им значения. Но потом показала несколько рисунков из своего альбома. Валентин откровенно высмеял их, сказав, что вся эта глупая мазня не поможет ей заработать денег и пробиться в жизни. Расстроенная девушка отступила, чувствуя себя пристыженной, точно ее уличили в каком-то неблаговидном поступке. Она терялась в догадках, как человек с такой утонченной натурой, умеющий так красиво говорить, романтик и поэт в душе, может презирать остальные виды искусства. Он знал немало стихов, но только любовного содержания, собственного сочинения или сочинения безвестных авторов. Лола пробовала обсуждать с ним Киплинга, Есенина, Маяковского и бессмертную прозу, но молодой человек с раздражением отмахивался и называл все это скукой смертной, добавляя, что не желает забивать голову чужими мыслями. Лола пыталась спорить, говорила, что это учит понимать жизнь, обнажает многогранность человеческой души, глубину Чувства и Порока, приоткрывает завесу чужих желаний. Валентин обрывал девушку на полуслове и низвергал на нее потоки желчи, переполненной грязной руганью. «Этим бездарным писакам нечему меня учить! Люди пишут только о себе – на кой дьявол мне сдались их проблемы?! Со своей жизнью я разберусь сам, без их и твоей помощи! Хватит лечить меня!»
Никогда еще он не говорил с ней так грубо. Лола смотрела на него в ужасе, не узнавая, и не решалась подать голос в ответ на столь откровенную злобу, почти ненависть. Впредь Лола следила за словами и обходила темы, которые могли бы рассердить Валентина. Таких было не счесть, поэтому девушке приходилось нелегко.
Но единственным выбросом дело не ограничилось. Молодой человек вспыхивал подобно бикфордову шнуру. Что угодно могло вывести его из себя: легкое опоздание, чрезмерное внимание к фильму с привлекательным героем, бесконечная нежность («грехи замаливаешь?»), яркая одежда, не услышанный Лолой вопрос, не принятый сразу звонок… Даже хорошее настроение девушки вскоре стало вызывать подозрения. Чего это она такая веселая? Уж не сдружилась ли с кем-нибудь из одноклассников? Или кто новенький замаячил на горизонте? Быть может, он, Валентин, уже сидит у нее в печенках? Быть может, его замечания ей в тягость и она соскучилась по легкому флирту без обязательств, которым дразнила поклонников до встречи с ним? Лола оправдывалась, но это лишь подзуживало молодого человека. «Вы только поглядите, как яростно защищается эта львица! Невиновному человеку незачем себя отмазывать!»
Валентин осыпал девушку проклятиями, называл безнравственной, взбалмошной, не способной на взрослое чувство. В его понимании любовная связь давала мужчине полное и безраздельное право распоряжаться женщиной и всем, что имело к ней отношение: поведением, досугом, внешним видом и в особенности окружением. Лола боялась ему перечить. Валентин больше не позволял ей бродить по улицам в одиночестве, требовал отчета о каждой отлучке из дому. Он встречал ее после уроков, а если расписание менялось и Лола возвращалась домой раньше, без сопровождения, это оборачивалось таким безобразным скандалом, что Лола еще долго приходила в себя.
Когда Лола поняла, что в минуты его неистовства все тщания убедить или успокоить Валентина бессмысленны, она выбирала меньшее из зол, единственный на ее взгляд верный способ избежать сцены, и молча уходила. Это сработало раз, два, но на третий Валентин схватил ее за руку, толкнул к стене и принялся молотить кулаками по обеим сторонам от насмерть перепуганной девушки. Обезоруженная его яростью, оглушенная воплями, она не могла даже заплакать, только беспомощно закрывалась, в любую минуту готовая получить удар в лицо. Похожим образом заканчивались все попытки уйти – теперь уже натуральным образом спастись бегством. Валентин удерживал девушку силой, толкал вглубь квартиры, но строго рассчитывал хватку, не бил и следов не оставлял. Довольствуясь угрозами расправы, если девушка позволяла себе перебивать, возражать или, того пуще, уходить во время головомойки, он путем морального давления постепенно лишил ее воли и в итоге делал с ней все, что хотел. Грязные оскорбления и унижения сыпались вместо ударов. Теперь во время ссор Лола не могла вставить ни слова без того, чтобы Валентин не прибегнул к застращиванию. Все это повторялось ежедневно, иногда по нескольку раз на дню. Наблюдая, как Валентин горстями пьет успокоительные, в кровь разбивает кулаки о стену, полосует себе руки или прижигает их сигаретой, когда думает, что его никто не видит, Лола верила его угрозам. Если захочет, если ему это понадобится, он изувечит ее.
Она пыталась воздействовать на Валентина мягкой проникновенностью – он в ответ с видом господина приказывал не учить его жить. А если она упорствовала, выходил из себя и обрушивался на нее с яростью одержимого. Каждую свою вспышку он ставил ей в упрек: «Ты нарочно меня бесишь!» Угрозами он заткнул девушке рот и приказал держать их отношения в тайне от матери. Лола стала полностью зависима от его слова. Он захватил власть над ее волей, над ее ответами, поступками, каждым движением.
На второй месяц отношений закончились их выходы в свет. Валентин терпеть не мог без толку «шарахаться» по улицам. Все кафе, кофейни, рестораны и другие развлекательные заведения в его понимании существовали только для «буржуа», которым некуда девать свои денежки. Валентин встречал девушку под окнами школы, ласково целовал и прижимал к себе, делая вид, что не замечает обращенных в их сторону любопытных, восхищенных и завистливых взглядов, уводил к себе и не отпускал до вечера. Но всегда к назначенному часу Лола оказывалась дома. В те дни, когда Валентина занимали другие дела – какие именно, ей уточнять запрещалось – и она была предоставлена сама себе, Лоле приходилось каждый час отчитываться в «аське». И если она задерживалась с докладом о том, чем занималась, кто звонил и приходил, то на следующий день жестоко за это расплачивалась.
Выходить одной куда-либо, кроме как в магазин, было нельзя. Но однажды Лола ослушалась и ушла из дому на весь день. До самого вечера она гуляла по набережной; подобно вырвавшейся из кандалов узнице дышала соленым бризом, слушала напев пенистых бурунов и наблюдала за парусниками. Валентину потом сказала, что не могла написать: отключили свет. Звонить же, если ее мать дома, он сам запретил. Молодой человек не поверил и закатил худшую сцену, какая только у них была. Утратив остатки самообладания, он повалил девушку на пол и приставил к горлу ножницы, процеживая сквозь зубы смешанные с бранью правила поведения, которые вырежет у нее на спине, если она еще хотя бы раз посмеет взбрыкнуться.
Впоследствии от прикосновений молодого человека Лола всякий раз вздрагивала и сжималась. Валентин даже не пытался извиниться, успокоить любимую, как-то развеять ее ужас. Напротив, говорил, что наконец-то видит ее такой, какой хотел видеть с самого начала. В страхе перед твердой уверенностью, что один из его припадков окажется для нее последним, затравленная девушка не смела даже помыслить о неповиновении. Приказ держать язык за зубами оказывал на нее подавляющее действие многим сильнее любого заклятия.
К середине марта 2002 года Лола обратилась в фантом. Из зеркала на девушку смотрело изможденное бледное существо с мертвенной пленкой в огромных глазах, обведенных темными кругами. Безграничная власть позволила Валентину перешагнуть собственные границы дозволенного. Под угрозами изувечения Лола слушалась беспрекословно, выполняла любое пожелание, и удовольствию молодого человека не было конца. Он с улыбкой повторял, наблюдая за ее реакцией, что ему ничего не стоит убить ее и обставить это как самоубийство. «После всех несчастий в вашей семье никто не удивится такому жалкому исходу твоей жизни». Лола давно перестала ему возражать. Физически истощенная, морально уничтоженная, она даже в школе не смела подать голос без разрешения. Избегала открыто смотреть в глаза, тенью скользила по коридорам. Прежде тихая, теперь она и вовсе исчезла с радаров окружающих. Временами никто даже не знал, здесь она или нет, пока ее не вызывали к доске или кто-нибудь из одноклассников не оборачивался на последнюю парту, где она бездвижно проводила урок за уроком, как брошенная хозяином марионетка. Не всегда удавалось дозваться ее с первого раза, она словно пребывала в межпространстве, и только громкий звук или чей-то резкий голос могли заставить девушку сбросить оцепенение и поднять испуганные глаза.
Лола не переставала думать об отце. Она всегда поверяла ему все свои горести, и сейчас говорила с ним так, как если бы он сидел в кресле, окутанный темнотой, и внимательно прислушивался к слезливым признаниям дочери. Но нет, это все не по-настоящему… Будь он жив, не пришлось бы молчать из страха перед расправой. Он бы никогда не допустил, чтобы кто-то повелевал ею, распоряжался, как своей собственностью, травил… «Что же мне делать?» – в слезах думала Лола. Острая необходимость в почившем родителе отзывалась нестерпимой болью в сердце и оборачивалась беспробудным кошмаром. Лола напоминала себе, что отец покинул ее безвозвратно, и все равно продолжала взывать к нему в приглушенных рыданиях. Она молила дать совет, но вместо вплетенного в сон спасительного решения наблюдала одни и те же безобразные сцены из собственной жизни. Каждую ночь она засыпала и просыпалась в слезах. Ночные кошмары не отличались от кошмаров реальных, две реальности соединились в один жернов, бесперебойно работающий на нервах и слезах измученной девушки.
На все вопросы матери, заметившей тающее на глазах здоровье дочери, Лола отвечала механически, врачу показаться отказывалась, а если родительница в попытках вызвать ее на откровенность заводила разговор об отце, Лола замыкалась и просила оставить ее в покое. В ее подавленном состоянии это звучало не грубо, но с какой-то странной торжественной печалью. Внешняя болезненность, тусклый блеск глаз, воспаленных от нескончаемых слез и кошмаров, от бессонных ночей, – все, что могло бы вызвать подозрения в другой ситуации, в этой было просто неверно истолковано.