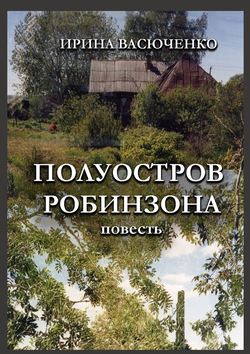Читать книгу Полуостров Робинзона - Ирина Васюченко - Страница 11
Часть первая. Черт или паралич?
Глава 2. Вздохи в огороде
Оглавление«Наряд королевы состоял из легчайшей батистовой туники, отделанной валансьенскими кружевами. Витой пояс из розового шелка перехватывал…» На этой искусительной фразе обрывается мой перевод очередного романа Дюма. Королева подождет. Мой наряд состоит из пыльного пропотевшего балахона собственного изготовления, никогда не имевшего формы и давно утратившего цвет. В нем с утра до вечера я роюсь в огородных грядках. Картошка. Горох (поздно сажаю, вряд ли будет толк). Капуста (в этом году какие-то микроскопические прыгучие твари так лопают рассаду, что от нее скорее всего ни листочка не останется). Помидоры. Тыквы. Фасоль, редька, репа…
Из сарая доносятся специфические хриплые звуки. Это стонет двуручная пила, которой Игорь в одиночку пилит дрова. Как последовательный индивидуалист, он все, что делает, любит делать один. Чтобы заставить пилу примириться с таким обыкновением, он пристроил к ней громоздкое сооружение из деревяшек и кусков проволоки, долженствующее отчасти заменить отсутствующего пильщика-партнера. Я вдоволь поиздевалась над ним, пока он мастерил сию конструкцию. И оказалось, напрасно: она работает, хотя, подобно большинству технических приспособлений, созданных гением моего супруга, выглядит сущим монстром.
Руки потрескались и ноют, особенно по ночам – днем отвлекаешься, а стоит улечься и потушить свет, пульсирующая боль в почерневших распухших пальцах разыгрывается, мешая заснуть. Все же надо работать в перчатках. Они есть – их привезла подруга из Австрии, они так милы и кокетливы, что жаль пачкать, но главное, без них дело идет быстрей и ловчее. А надо спешить: земля, что ни день, становится суше, сорняки разрастаются. Да и батистовая королева в нетерпении.
Весь этот ужас – огородная посевная – будет тянуться еще долго, как минимум дней двадцать. Но первые дни после приезда в деревню тем еще сложны, что нужно возобновить прервавшиеся за зиму контакты. Это все неправда насчет простоты сельских нравов: здесь люди куда легче обижаются – чтобы ладить с ними, надобно соблюдение этикета, на свой манер, пожалуй, не менее замысловатого, чем дипломатический.
– Ты что ж это, Нон, к Надьке зашла, а ко мне не идешь?
– Ну, ты сравнила! Она у самого магазина живет, к ней можно мимоходом заглянуть, а до тебя сколько идти? Вот подожди, управлюсь с огородом, уж тогда зайду.
– Это ладно. Ты мне другое скажи. Почему ты Надьке письмо написала, что у тебя мать зимой померла, а мне нет?
– Я тебе тоже писала, ты разве не получила?
– Да ты что? Ну, я почтальонке скажу! А Марина-то Михална хорошая бабка была, это ж горе вам какое…
Началось. Соврав, будто писала ей, я надеялась, что таким образом можно будет перевести разговор на что-нибудь другое, хоть ту же ненадежность почтового ведомства. Ан нет: придется принять соболезнования по полной программе. Не только Нюра, числящая себя моей подругой, но и каждая встречная тетка будет все это повторять.
– …вот уж верно, когда без матери, оно совсем другое. Мать – всегда мать…
– Да пошли ты ее ко псу! – над самым ухом смеющийся, негодующий мамин голос. Она терпеть не могла таких разговоров. Услышав патетическую сентенцию насчет материнства, любила брякнуть что-нибудь кощунственное, чтобы уесть собеседника, да заодно и покончить со «слащавым кудахтаньем». Хотела быть не родной кровью, а другом, умела это, как никто…
– И пензию-то (здесь все произносят это волнующее слово через «з», отчего в нем появляется некое ядовитое зудение) она хорошую получала, все вам подспорье…
– Да.
– Чего ради ты терпишь это занудство? – сердито басит мама. Когда шесть лет назад ей отрезали ногу и она появилась в деревне на костылях, она быстро отшила всех добросердечных старушек, при каждой встрече принимавшихся причитать о том, как плохо быть без ноги.
– Ну, она же не со зла, – неслышно отвечаю я, как часто говорила при ее жизни: ей всегда было досадно, что я корчу из себя кроткую терпеливицу, какой, по ее убеждению, совсем не рождена. И прибавляю вслух:
– Да, правда. Но ты извини, мне надо спешить – еще ведь поливать.
– Ох, девк, а мне-то!
Однако и в магазин придется тащиться. По радио сказали, что в провинции уже кое-где начался катастрофический спрос: в предвидении потрясений, связанных с возможной победой коммунистов на президентских выборах, народ запасается крупами, солью, сахаром, мукой. Если все это здесь исчезнет с прилавков, мы пропали. Стало быть, берется сумка на колесиках и вперед.
– Ну, ты и постарела! – вместо приветствия изумляется, увидев меня перед магазином, местный пастух, однорукий Федя. Мужик безвредный и меня уважает – даже умудрился не ввернуть ни одного из тех сочных присловий, без которых ему трудно обходиться. Нет, Федя совсем не хотел меня обидеть: он был чистосердечен и, соответственно, правдив. Увы.
Колесики перегруженной сумки истошно верещат. Под их аккомпанемент я шествую по разбитой асфальтовой дорожке мимо знакомых домов:
– Ну, здравствуй! А я уж думала, не приедете! Горе-то, горе какое… Ты небось от всего этого забыла мне семена привезть?
– Огурцов? Привезла.
– Так я ж не просто огурцов просила, мне «Либеллу» надо.
– Я помню.
– Достала? Ну, спасибо! Я в долгу не останусь!
– Да брось…
Идея, что негоже оставаться в долгу, для местных важна до крайности. На что распространено воровство, но даже общеизвестный вор, если случится попросить о каком-нибудь мелком одолжении, страстно бормочет «Не боись, хозяйка, я тебе как-нибудь… ну… отработаю». И даже случается, что потом действительно принесет пакет огурцов или пучок переросшего укропа. А уж если имеешь дело со степенной, самолюбивой и домовитой старушкой, та непременно, приняв пакетик семян или букет цветов, явится после с кульком яиц. У нас дома это называется «цветы снеслись», потому что именно за цветами ко мне чаще всего и обращаются.
Когда мы сюда приехали, цветов в палисадниках не было почти ни у кого. Теперь их гораздо больше, в основном потому, что я их пристраивала направо и налево, когда они стали разрастаться. Выбрасывать жаль – ведь живое, – и я уговаривала соседок, мол, посадите у себя, они неприхотливые.
– Да ну их, – соседки прятали глаза. – Мы не привыкли, у нас картоха там или капуста, а это для городских больше…
Им одалживаться не хотелось. Они настораживались, не понимая, на что я рассчитываю, чего замышляю добиться. Когда же до них доходило, что мне ничего не надо, охотно тыкали в бледную почву своих палисадников мои ирисы, лилии, флоксы. Правда, далеко не все они способны приживаться без ухода, а возиться с таким «баловством» здесь не любят. Но когда дети идут первого сентября в школу или заканчивают очередной учебный год, когда надо навестить родню на кладбище или отправиться на день рождения, возникает острая надобность в букете, и тут ко мне бегут иногда с таким паническим видом, будто не за пучком тюльпанов, а за лекарством для тяжело больного. По нынешним временам можно бы и торговлишку открыть, но однажды заявив, что эти блага бесплатны, неловко изменять своему слову. Впрочем, как уже было замечено, букеты несутся сами собой. Хотя с годами их яйценоскость падает.
Вечер застает меня опять в огороде с лопатой. Но теперь легче – прохладнее, и тихо екает сердце при мысли, что скоро совсем стемнеет и копать станет невозможно. Хотя нет: луна… Все равно, пусть луна, а я до того куста докопаю и брошу, пропади оно все пропадом! Нет, прямо сейчас возьму и прекращу этот трудовой подвиг! Уф! Минуты блаженства. Нарциссы в сумерках пахнут сильнее, и машины все реже проносятся по шоссе, дико грохоча и воняя.
– Ставлю чай! – кричит с террасы Игорь. А соловей в кусте неподалеку начинает пощелкивать, пробуя горло для песни. Есть примета: если весной соловья услышишь прежде кукушки, это к счастью.
В голове начинают крутиться какие-то строчки. Боже сохрани: я не поэт, если что и срифмую, то исключительно в шутку. Так. Это будет называться «Ночные вздохи в огороде»:
Луна сияет. Близ сортира —
– Чу! – соловей. Певец неплох
Для птицы. Веяньям зефира
Протяжный чей-то вторит вздох.
Стою в лучах, но думы гадки:
Мол, все мура, все прах и тлен…
И, растопыренный на грядке,
Вздыхает полиэтилен.
Нет, положительно моя муза не дщерь богов, а зловредная притворщица. В кои-то веки снизойдет на душу отрадное просветление, а она тут как тут и нашептывает гадость. Спрашивается, зачем?