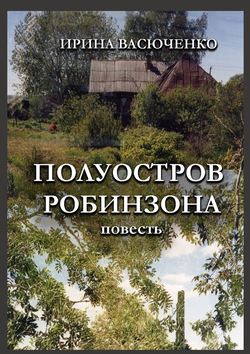Читать книгу Полуостров Робинзона - Ирина Васюченко - Страница 24
Часть первая. Черт или паралич?
Оглавление***
Зря боялись: самой худшей беды президентские выборы все-таки не принесли. «Слава те, лапоть!» – по кощунственному выражению сестрина мужа. Радости нет. Это похоже, как если бы завязнуть в болоте, а тут откуда ни возьмись крокодил… ф-фу! уполз. Остается выбраться из трясины, только не очень понятно, как. Надежды эфемерны, опасения фундаментальны, в несчастной Чечне снова…
А нас между тем пригласили в гости. Аж в два дома: к Артюхиным на шестидесятилетие хозяина и к завклубом по случаю заколотого поросенка. И там, и здесь неизбежны остаточные симптомы предвыборной лихорадки. Но пойти надо.
Грею воду, устраиваю большое купанье. Напяливаю белый легкий костюм, цепляю серьги, даже умащаюсь благовонием. Это до смешного приятно – по контрасту. Ведь копаешься день за днем в огороде, черная, как сковорода, и пыльная, как проезжая дорога. Так, теперь заставить Игоря сменить милое сердцу рубище на мало-мальски цивильную одежонку. Хотя нет: сначала, применив насилие, подстричь ему разросшуюся бороду. Да, и букетом запастись. Дельфиниум и гипсофила – сойдет.
– Вот, – удовлетворенно замечает, встретив меня, баба Катя. – Теперь видать, что барыня. А то все в штанах, ровно малый какой.
Артюхины не абы кто: это один из зажиточных местных кланов. Знать в своем роде. Не только их дом, но и огород, хозяйственные постройки, даже – диво дивное! – отапливаемая теплица, короче, все артюхинское являет собой великолепие, недостижимое для большинства односельчан и порядком их раздражающее.
– Все потому, что сын с зятьком в Китай за шмотками ездят, – бурчит население. – Нынче, у кого совести нет, все торгашами заделались, работать некому…
Работают Артюхины не только неутомимо, но и грамотно. Они даже метод профессора Митлайдера пытались на своем огороде применять. Правда, вскоре спасовали: больно хлопотно. Да и к чему? Никакой Митлайдер уже не в силах прибавить овощнику Артюхиных роскоши и изобилия – предел возможного достигнут.
Стол ломился. Крупная, видная хозяйка сияла. Щуплый, мечтательно хмельной хозяин смутно улыбался, конфузясь, что беззуб. «Богачу» Михаилу вставные челюсти по карману, да видно, плохие достались, теперь в тумбочке хранятся: «Разве вкус чужим зубом почувствуешь?»
Гости – кроме нас, все больше родня – от похвал яствам и напиткам вскоре перешли к остывающей злобе вчерашнего дня. Сверх ожидания зюгановцы, превалирующие в масштабах села, здесь вдруг оказались в меньшинстве, да еще, похоже, стеснялись своих политических симпатий перед «городскими». Подспудная догадка, что это не красит, заметно подтачивала их. Ведь у Артюхиных собрались те, кто хочет быть не просто в стаде, а среди первых.
– Пусть Ельцин! – обрывает вялую дискуссию юбиляр. – Должен доделать, что начал!
Его сейчас другое тревожит. Он наклоняется к нам, шепчет, стараясь, чтобы другие не услышали:
– Вот вы, вы же ученые… Вам среди нас, мужичья неотесанного, не противно?
Мы протестуем. И главное, не врем. Михаил – натура тонкая, его природная деликатность редка не только для здешних мест. Он стал бы нам приятелем, возможно, даже скорее, чем его кипучая Надя, да вот беда: с ним надо крепко пить. Ни наши нервы, ни желудки для такой дружбы уже не годятся.
– Выучиться бы.., – шепчет он. – Так хотелось! На конструктора, да! Взять хоть «муравья» моего… вот езжу на нем, а не я его придумал. А уж я бы придумал! Верите? Нет, вы скажите: верите?
Это не вовсе пьяный треп: сужу по тем механическим кентаврам, составленным из кусков брошенной колхозной техники, что резво бегают у него под седлом. А тоска и подавно настоящая. Мы торопливо бормочем что-то о том, какой он молодец, как многого достиг. Лицо Михаила понемногу светлеет, он уже хвастается. Бахвальство – традиционный признак кузякинского мужского монолога, как правило, имеющий мало касательства к грубой прозе действительности. Но Артюхин хвалит себя по праву:
– Верно, строитель я добрый. Тут, в округе, мне равного нет. Домов, что я ставил, в районе не сосчитать, и всегда их отличить можно…
– Вот видите! – с облегчением подхватывает Игорь. – Я тоже неплохой переводчик, но равные есть, еще и получше найдутся. Значит, мне вам позавидовать стоит.
– А то, о чем больше всего мечтаешь, оно ведь никогда не.., – это уже я. Головокружительная глубина рождающегося во мне замечания заставляет предположить, что четвертая рюмка была лишней.
– Когда б имел златыя горы…
От неожиданности я подпрыгиваю на стуле, безвозвратно утратив окончание фразы. Голосовая мощь моей визави превосходит всякое вероятие. Плотная, тумбастенькая, совсем без шеи, страшновато напрягая место сочленения головы с туловищем, она поет дико, но здорово, песня оказывается длинной, с назидательным сюжетом. Женщины подхватывают, я открываю рот вместе с ними и смотрю на них, смотрю. Какие старые… Господи, ведь мы почти ровесницы! Какие некрасивые… в парадных платьях и прическах это бросается в глаза сильнее, чем в повседневной затрапезе. Скоро то же будет со мной… или уже? Но чего во мне никогда не появится, так это подобной лютой жизнерадостности. В их пении такое неистовство нерастраченных чувств, что впору все забыть – грубость облика, недостаток вкуса и слуха.
Оставь, Мария, мои стены,
Я провожу тебя с крыльца!
Действительно, пора. Завтра нас ждут у Завьяловых. Туда кузякинских не зовут, только дачников. Любе немила деревня и все, что с ней связано. Завьяловы – беженцы из Средней Азии, они там жили в городе и принадлежали к начальствующему сословию. Когда для первого знакомства Любовь Семеновна плакалась, сколь унизительно копаться в навозе после того как руководила отделом РОНО, я сочувственно хмыкала, но про себя думала, что при этакой дилемме выбрала бы навоз.
В Завьяловой и после всех передряг еще что-то сохранялось от советского преуспеяния, боевитого, ханжеского, но в дамском варианте непременно благоухающего большой парфюмерной химией. Она мне напомнила… Была у нас на курсе злющая сладенькая красотка – талия в рюмочку, губки цветочком, кудри просто ах – ее муж-физик говаривал:
– Тебе от меня уходить нельзя. На карту поставлена обороноспособность государства! Создать нейтронную бомбу я способен только в союзе с тобой!
Нет, не понравилась мне Люба Завьялова, угадать в ней под ошметками облезающего партийно-чиновничьего глянца личность пусть не близкого склада, но с головой, душой и честью я тогда не сумела. С порога бы отшила, не будь она беженкой – человеком, затерянным в чуждом мире. Упрямая отвага, с какой она старалась сохранить в Кузякине былую элегантность, ее задорно приподнятая на каблучках нарядная фигурка среди насмешливо поджимающих губы местных баб – все это казалось жалобной напрасной бравадой. Ничего подобного! Прошло года четыре, и она снова на коне. Одинаково виртуозно управляется с непослушными коровами, ордами пьяных юнцов на клубной дискотеке и председателем… то бишь директором Зобовым, с которым научилась объясняться по-свойски:
– Ты что, охренел? Не будь козлом: клубу нужно то-то и то-то. Вот коньячка прими и давай это дело решать!
С виду она по-прежнему Белоснежка – так мы с Игорем между собой сразу прозвали ее. Только складочки у рта все жестче: как-никак за сорок. И ход мысли меняется, а что медленно, понятно – серьезный же человек. Положим, теперь эти перемены ускорились: ее сына в армию забрали. Балованного, смазливого, довольно безмозглого юнца, вечно требовавшего денег, но так и не отучившегося морщить носик, когда мать приходит из хлева:
– Ну ма-ам, от тебя же пахнет!
«Ребенку» в казарме плохо, и о нравах армейских Люба отзывается с негодованием, какого раньше от нее трудно было бы ожидать.
– Да-да, ты права: армия должна быть профессиональной, – ласково воркую я. Улавливая подвох, Завьялова ежится, но крыть нечем.
Останки поросенка жарятся под открытым небом в огромном, вывезенном из прежней жизни казане. А пируют под навесом, причем на столе скатерть и даже салфетки: Белоснежка верна себе. Аромат жаркого умопомрачителен, но и застольная беседа помрачает – душу. Хозяйка пира, хоть и поколебалась в своих державных идеалах, все еще сторонница коммунистического правления. А что дворянка по материнской линии, так ведь преданность государству в духе дворянских традиций, государство же при КПСС было или казалось куда мощнее, чем ныне. О гибели предков в лагерях Люба знает понаслышке, зато почет и достаток, четырехкомнатная квартира и дача с фонтаном – все это у нее было и воспринималось как проявление «порядка» и «величия страны», пока из-за горбачевской злосчастной перестройки…
– Что ни говорите, – Люба косится на меня, – а прежде у молодежи были духовные ценности. Теперь – ничего святого. Вы представляете, мальчик одиннадцати лет на клубном утреннике хочет спеть песню про сигареты с ментолом! Настаивает, и я ума не приложу, как ему объяснить, что это ужасно!
Ужасно? О, то ли дело мы когда-то: все в одинаковых – сверху белое, снизу синее – костюмчиках и красных галстуках выстраиваемся на эстраде и усердно мяукаем про «край родной, навек любимый». Зато какой тошнотворно-похабный детский фольклор бытовал в компаниях, поодаль от взрослых ушей! За всю свою позднейшую жизнь я ничего не слышала гаже доморощенных куплетиков, что мурлыкали те же самые пионеры в переулках Расторгуева. Или наш поселок отличался особой развращенностью? Нет, я как-то напомнила о тех песенках знакомой критикессе, поборнице сугубой чистоты и благолепия в детской литературе. И она, в прошлом девочка из элитарной московской семьи, вздохнув, неохотно, но честно признала: «Да, правда…»
Любови Семеновне я решаю не возражать. Может, в их благословенной Аллахом Фергане такого безобразия не было? Да и не стоит об этом при дитяти: среди гостей крутится пятилетний хозяйкин племянник, еще один кумир своих родителей. Чадо развлекается тем, что, по очереди подходя к приглашенным, каждому говорит какую-нибудь гадость: «Ты очень много съел!», «Руки надо лучше мыть!», «У тебя сиськи жирные!» и т. п. Присутствующие натужно улыбаются. Игорь вот-вот скажет что-нибудь непоправимое. Желая его отвлечь, украдкой извлекаю из кармана карандаш и царапаю на салфетке «Подражание Тютчеву»:
Не то, что мните вы, ребенок:
Не ангел, спрыгнувший с небес,
Не эльф, что вылез из пеленок,
А приставучий вредный бес!
Пора бы мне знать всю меру коварства моего благоверного. Невиннейшая лучезарная ухмылка продирается сквозь заросли его бороды, и он добродушно провозглашает:
– Послушайте, какой забавный стих сочинила Нонна!
Теперь натянутость заметна в улыбках хозяев. Вряд ли мой скромный экспромт завоевал их сердца. Дома я напускаюсь на супруга с упреками.
– Мы там торчали не просто так, а на амплуа свадебных генералов, – важно изрекает он. – Шаловливая непринужденность положена нам по роли.