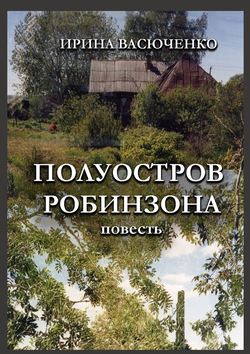Читать книгу Полуостров Робинзона - Ирина Васюченко - Страница 14
Часть первая. Черт или паралич?
Глава 3. Столб дыма
ОглавлениеЯ увидела его, когда мы только что расположились покайфовать в беседке. Перед нами уже стояли две чашки свежезаваренного «цейлонца» и тарелка с грудой горячих оладьев. Чудовищная наша беседка, сооруженная Игорем из ржавых железных прутьев, обнаруженных на задворках селения, там, где кладбище отработавшей сельхозтехники на фоне подкравшегося вплотную леса создает мрачный, но по-своему живописный пейзаж, – беседка, говорю, уже перестала казаться призраком, забредшим к нам с этого кладбища и не успевшим вернуться туда до петушиного крика. Актинидия, каприфоль и немилосердно забивающий их девичий виноград, с каждым годом разрастаясь все пышнее, превратили сию конструкцию в милый и трогательный, хотя тесноватый приют. И вид оттуда открывается самый что ни на есть благолепный: не на покосившийся сарай, облупленный дом или пыльное шоссе, а на цветник. Сейчас там вовсю пестрят водосборы, ирисы, ранняя ромашка. Но хоть виноградная листва и заслоняет прозаическую кузякинскую улицу от взгляда блаженствующего эстета, в пышном ее пологе имеется дыра. И немалая.
Сквозь эту самую дыру я его и заметила. Он стоял в голубом небе, плотный, компактный, чуть наклонный – под тем же примерно углом, что Пизанская башня.
– Ого! – сказала я. – Похоже на пожар.
Пожары – бич здешних мест. Не проходит года, чтобы кто-нибудь в деревне не погорел. У Маканина есть повесть про поселок, терзаемый бесконечными пожарами, и пока мы не поселились в Кузякине, я, каюсь, считала, что это у него такая не в меру прямолинейная аллегория. В кузякинских регулярных пожарах на взгляд человека, чья голова набита книжными ассоциациями, тоже сквозит нечто аллегорическое, но попробуй доберись до автора… Частенько горят от молний, в том числе шаровых. По слухам, они здесь не редки, впрочем, я не видела до сих пор ни одной. Воры, по здешнему обычаю забираясь в пустующий дом, тоже легко могут его подпалить. «Чтоб замести следы!» – в священном ужасе восклицают деревенские. – «Нет, это месть! Кто-то отомстил!» – с почти сладким трепетом возражают другие. Жуткие, леденящие кровь фантазии придают монотонному существованию некоторую остроту. Помню, так двое малышей, сын и племянница знакомой поэтессы, брались за руки и шли в темный коридор, зловеще шепча друг другу:
– Пойдем страшиться!
Чушь. Если взломщики что и подожгут, то случайно. Мы ведь тоже, возвратившись сюда весной, находим на полу обрывки жженой бумаги. Ночные посетители освещали себе путь факелами, бросая их, недогоревшие, на пол и зажигая новые. У нас нет врагов и завистников, и последнему дебилу понятно, что никто не явится сюда за отпечатками пальцев наших злодеев, даже если бы мы с пеной у рта этого требовали.
Преступление слишком ничтожно, урон – грошовый, о чем толковать? Просто наш отсыревший за зиму, надолго покинутый домишко не мог заняться от такой малости, а вот протопленный, сухой дом Муховых, к которым недавно забрались за мясом – все Кузякино знало, что Муховы зарезали корову, – вспыхнул, как спичка. Но по-настоящему страшиться стоит не таинственных мстителей и даже не воришек, способных второпях учинить беду, а пьяных. Так позапрошлой зимой сгорел дом нашей соседки Анны Петровны Уткиной. Это была двужильная неприветливая старуха, когда-то известная на всю округу хохотушка и певунья, родоначальница нескольких поколений многолюдного полублатного семейства, которое ей чудом удавалось держать в мало-мальски приличных рамках. Секрет такого могущества был, может статься, в том, что она умудрялась любить эту ораву грубых, наглых и нечистых на руку паршивцев обоего пола, от мала до велика внушающих всем прочим опасливую неприязнь.
– Нет, мои – хорошие, – твердила она, упрямо отрицая очевидное. Видимо, Уткины были подвластны этому волшебству: пока она жила, вели себя сноснее. И дом был, и хозяйство. А померла, и потомки, надравшись, тут же устроили пожар. Рассказывают, что горело страшно, к тому же дул сильный ветер – местность здесь вообще ветреная, – неся ураган искр в сторону нашего дома. В этом урагане металась с иконой наперевес другая соседка баба Катя, не без причины боявшаяся, что если огонь перекинется к нам, то ее деревянному дому, стоящему почти впритык к нашему, придет неминучий конец. Все это случилось ночью, и никто, кроме Катерины с иконой, стихии не препятствовал.
Однако до сей поры все эти бедствия происходили без нас. Мы бы и теперь, не будучи пожарными, и не подумали мчаться на место происшествия, если бы…
– Слушай, а это, часом, не у наших?
«Наши» – это семейство сестры. Соблазнившись моими рассказами о Кузякине (читатель, вы сомневаетесь, что этим можно соблазниться? Тем не менее так и было!), они года четыре назад тоже приобрели здесь избу. Что немаловажно в данном случае, деревянную. Вера с Петром и детишками пока в Москве, здесь только Августа Леонидовна, Петина мама. Человек четкий, собранный – не нам чета: быть не может, чтобы она допустила роковую оплошность. Но дымный столб, диковинно торчащий посреди в кои-то веки безветренного неба, тревожит все-таки. Пока не увидим, где он начинается на земле, о приятном чаепитии лучше не мечтать.
И вот мы легкой рысцой – не со всех ног, ведь тревога наверняка ложная – трусим туда, откуда теперь уже и треск слышен, и видна изрядная толпа. Летняя толпа в веселых разноцветных одеждах – от этого безотчетно кажется, что там ничего дурного не происходит. Как-то, еще девчонкой, бродя по лесу, я, помню, вприпрыжку выбежала на поляну, где вот так же празднично пестрела стайка людей. Они что-то окружали. Это был труп.
…Наша рысь между тем переходит в галоп. Чем ближе, тем очевиднее, что зеваки собрались именно перед домом Филипповых. Добежав, взмыленные и задохнувшиеся, обнаруживаем, что догорает дом соседей, а филипповский вот-вот займется, но пока только стена обуглилась. Несет адским жаром – к двери не подойти. Тут же стоит пожарная машина, но вода у них кончилась, и эти парни без толку топчутся около, меланхолически перекидываясь со зрителями соображениями, спасут или не спасут второй дом, успеют воду подвезти или нет. Августы Леонидовны нигде не видно. Господи, она же могла задремать, ей могло стать плохо… Бросаюсь к пожарному:
– Там человек!
Пожарный меняется в лице:
– Вы уверены?!
Но тут крайнее, самое отдаленное от огня окно вылетает со звоном от удара, как выяснилось впоследствии, табуретки. Потом оттуда вышвыривается паспорт. За ним толстенная (но, к счастью, крепкая – не рассыпалась) папка с куском переведенного нами романа, который Августа Леонидовна взяла почитать. Следом плюхается мешок сахара-песка – семь кило, запас на все лето, включая будущие варенья – и наконец не совсем ловко, но сохраняя достоинство, наружу выбирается сама Августа с ведром на голове – это чтобы не порезаться осколками стекла. Она неподражаема: минуты не проходит, как добывает у соседей еще несколько ведер, организует спасательную операцию, и мы с ней и Игорем начинаем таскать воду из колодца. Пожарники выплескивают ее на угрожаемую стену. Усилия лихорадочные, но, похоже, все зря. Однако прекращать не хочется: просто стоять и смотреть еще хуже. Три-четыре соседские бабушки, то ли сжалившись, то ли забеспокоившись, что этак и до их жилищ очередь дойдет, тоже принимаются таскать ведра. Но большинство, в том числе парни и мужики, хранят невозмутимость. Многие жуют резинку. Пробегая туда-сюда с ведрами, краем уха ловлю реплики: «Фигня, все равно сгорит»… «И дом-то говно»… «Небось, еще и не застрахован…»
Откуда-то доносятся причитания. Это владельцы догорающего дома оплакивают свое добро. «Всю жизнь копили, – стонет кто-то, – и на старости лет…» Да, им придется теперь жить в местных «Черемушках». Эти двухэтажные многоквартирные бараки «с удобствами», где зимой стужа, а летом духота, ненавистные большинству своих обитателей, являются предметом вящей гордости здешнего начальства и одним из основных доводов защитников колхозного строя. Кто-то в толпе замечает: «Вещичек для погорельцев собрать надо». Да, здесь так принято. Это сделают.
В негромкое бормотанье толпы врезается звонкий вопль:
– Едут! Машина из райцентра!
Дом спасен. Ну, боковая стена почернела. Садик истоптан. Сущие пустяки по сравнению с несчастьем, постигшим соседей. А ведь у них еще и скотина погибла: поросенок, телка, куры. Обгоревший пес с цепью на шее валяется там, где прежде стояла будка. Хозяевам было не до него – они вещи выносили, а чужих он не подпустил: говорят, кто-то пытался его отвязать, но несчастный все еще нес свою караульную службу.
Зеваки разбредаются. Плачущую погорелицу, старейшую в доме, слепую, под руки уводят куда-то. Августа что-то ласково шепчет ей на ухо, накидывает на сгорбленные плечи свою теплую кофту, печально смотрит вслед.
– Да вы так уж не жалейте! – говорит ей сухопарая, с едкой улыбкой хозяйка дома напротив. – Сами они и виноваты! Нажрались, поди, до упаду. Или малый со спичками играл, совсем же не смотрят за малым-то! Вот вы не знаете, а Валька, когда занялось, не его спасать кинулась, а телевизор! Чего головой мотаете, не верите что ль? Точно вам говорю! Ее дед потом корил: «Ты что ж, сучка, вроде как не мать?» А она ему: «Так я сообразила: дите кто-нибудь да вытащит, а телек мой, на мои кровные купленный, его, кроме меня, жалеть некому!»
Вечером приезжает Петр. У него машина, он вообще единственный среди нас деловой человек. Смотрит на курящееся пепелище, потом задумчиво переводит взгляд на собственный закопченный домик, на искореженный палисадник, поваленный полусгоревший забор…
– Гортензию сломали, – вздыхает Августа Леонидовна, – пытаясь расправить все еще подрагивающими пальцами чахлый кустик, втоптанный в землю бесстрашной ногой пожарника.
– Что гортензия! – откликается одинокий в нашем сумасшедшем гуманитарном окружении обладатель практического ума. – Ты о другом подумай. В прошлом году Уткины горели, их, – красноречивый жест в нашу сторону, – ближайшие соседи. Теперь эти. Бог, наверное, на наше семейство ополчился. Не хочет, чтобы мы в Кузякине поселились. У него просто издали точного попадания не получается. Помнишь, как в анекдоте: «Черт, опять промазал!»