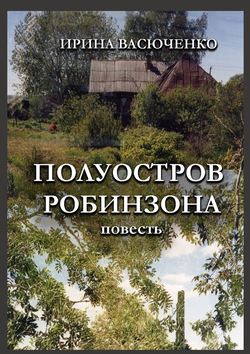Читать книгу Полуостров Робинзона - Ирина Васюченко - Страница 16
Часть первая. Черт или паралич?
Глава 4. Заколдованная коза
ОглавлениеНаш домик с первых лет своего существования слыл несчастливым. Его начал строить в восемнадцатом году зажиточный крестьянин, приходившийся дядей нашей соседке бабе Кате. Он хоть и «обогател», а не настолько, чтобы нанять работников. Учитывая беспокойные времена, он, видно, задумал особо мощное строение с толстыми стенами, способными выдержать штурм, и взялся возвести его сам. Как умел. Это его и погубило: однажды готовил раствор, плеснул воды в чан с негашеной известью да и заглянул посмотреть. Сжег легкие – одного вздоха хватило. Года не протянул, даром что здоровенный был мужичина. Наследники что-то пытались достраивать, но руки не доходили. Потом их раскулачили. Неуютный, сырой, с узкими, как бойницы, окошками и холодным одинарным полом, зато с широченными подоконниками и высоким потолком домик достался бедняцкой семье. Те с грехом пополам вытерпели лет сорок, но при первой возможности продали его москвичам.
– Здесь никто не задерживается, – утверждает баба Катя, прожившая на свете так долго, что сорокалетняя усидчивость бедняков в ее глазах – срок несолидный. – Такой уж это дом, пралик его возьми!
– Катерина Григорьевна, давно у вас спросить хочу. Здесь все, чуть что, «пралик, пралик». Что это такое? Паралич или черт?
– Какой еще паралич? Хворь, что ль? Тут нечего и спрашивать.
– Значит, черт?
– Черного слова не повторяй.
Ныне о злом роке, тяготеющем над нашим домишкой, кроме бабы Кати, никто из деревенских не помнит. Но продрав глаза ненастным утром, при одной мысли, что рано или поздно надо вылезать из-под одеяла, начинаешь понимать местных бабусь, у которых пралик с языка не сходит. Имя этому демону – паралич воли… Трясясь от стужи, поневоле вспомнишь несчастного строителя. Он еще одной важной вещи не знал: для жилой постройки годен не всякий камень – иной впитывает сырость, в знойную сушь продолжает дышать промозглыми испарениями. В жару пусть бы дышал, пожалуйста, но когда и без того… бр-р!…
Горло уже саднит, и я хрипло бубню в сонное ухо любимого заунывную будилку:
Очнись! Денек отменно гнусный —
Угрюма твердь и смертный сир…
Рискуешь ты проспать паскудство,
Которого не видел мир!
Накрапывает. Ветер, сырой и пронизывающий, добирается до самой души. Игорь, не такой зависимый от капризов природы, уже сидит за компьютером и будет, как всегда, работать до глубокой ночи. А у меня слипаются глаза, голова тяжелеет, и не только ясно, что подбирается мигрень, но и похоже, что она обещает быть особо свирепой. Чай бессилен. Завтрак отвратителен. Обед и вовсе в горло не лезет. Понимаю: пора сдаваться. Лечь. Замотать голову колючим «Импликатором Кузнецова», поверху приспособить в виде чалмы шерстяную драную шаль, принять цитрамон – средство, отвергнутое всем цивилизованным миром, но мне помогающее лучше аспирина, – и, задернув оконные занавески, на долгие часы погрузиться в знакомое состояние тошнотворного бессилия, к которому примешивается малая толика блаженства, делая его еще более омерзительным.
Яростный собачий лай возвещает, что кто-то пришел в гости. Черти принесли! Право, в эту минуту, явись ко мне хоть ангел небесный, я и то бы не сомневалась, что благодатный визитер воспользовался именно таким транспортом.
– Нонна! – надрывается под окном голос бабы Дуни. – Выдь сюда, а то я твою Мадамку боюсь! Ох! А это еще кто?! Ну, страшна!
Это она увидела Пенелопу, недавнее и довольно бестолковое наше приобретение. Когда мы с Игорем уходим из дому вдвоем, она пенелопит: усаживается на подоконник и ждет, красуясь в окне, так что всякому проходящему видно, что у нас есть большая собака и потому не следует пытаться обменять наши компьютеры на литр самогона. Сейчас Пенелопа суетливо топчется у забора и гавкает, призывая меня в надежде, что я отворю калитку и дам ей возможность любовно обслюнявить посетительницу. Это желание ее томит постоянно. У Мадам намерения другие. Она, существо проницательное, вопреки моей вымученной вежливости давно смекнула, что визиты бабы Дуни меня тяготят, и очень не прочь тяпнуть гостью. Из-за этого Евдокия Васильевна забредает теперь на огонек гораздо реже, а уж под моросящим дождем и подавно не явилась бы без основательной причины. Надо выйти.
Они стоят перед калиткой, ежась на ветру: толстая косолапая старуха в заношенном сером платье и ветхом платке и нарядная стройная блондинка, посредством косметики превращенная из бесцветной замухрышки в бледную загадочную красотку русалочьего типа. Это Снежана, соседкина внучка. С детства забитая драчливым папашей и истеричной матерью, да и самой бабкой, которая на свой лад их обоих покруче, девочка, войдя в возраст невесты, нарядившись, как кукла («Ничего для нее не жалеем!» – жалобно и обвиняюще твердит старшее поколение), вышла на тропу войны, то есть попросту загуляла. Шум громоподобных скандалов, которые закатывают в доме по этому поводу, часто долетает до наших ни в чем не повинных ушей. Истошные вопли «Убью!» и столь же оглушительное подтверждающее «Убивают!», сопровождаемое воем, от которого содрогнулись бы обитатели зоопарка, и душераздирающими призывами «Люди, помогите!» – ко всему этому пришлось привыкнуть или по меньшей мере попытаться. Со временем, однако, выяснилось, что с юной грешницей случаются то ли нервные, то ли сердечные припадки, а звать местную фельдшерицу семейство не желает, врача тем более. Они блюдут честь и, хотя сами же вопят на все Кузякино, панически боятся огласки.
Поэтому они зовут меня. Бред, конечно, и надо бы отказаться, но я знаю, что больше никого они все равно не вызовут, и потому капаю несчастной девчонке корвалол, пою мелиссовым чаем, делаю весьма приблизительно знакомый мне массаж стопы, бубню монотонным голосом какую-то успокоительную чушь…
– Я знаю, вы никому не скажете, – заискивающе воркует, топчась у меня за спиной, эта старая жирная волчица баба Дуня, – вы люди умные, секретные…
Поначалу нас с Игорем передергивало от «секретных людей», но вскоре стало понятно, что жуткое словосочетание просто-напросто означает, что мы не болтливы. (Кстати, и в этих записках имена и некоторые географические названия изменены – береженого бог бережет). Поэтому внезапное появление бабушки и внучки может означать только одно: опять потребовались моя сомнительная помощь и безусловная секретность.
– Она домой не хочет идти! – баба Дуня всхлипывает. – Скажи ей, Нон, она тебя слушает.
– Не пойду, – бормочет Снежана. – Я его видела, он у крыльца под сиреневым кустом сидит… В черном, до полу… Меня трясет всю…
– Кто под кустом? Где?
– У самого дома нашего прячется. Он это, я чувствую. Нечистый…
– Что за глупости? Тебе померещилось, а может, это Свиридов пришел выпросить что-нибудь или стащить, ты сама знаешь, он высокий и в плаще. Ну, если тебе страшно, давай вместе пойдем.
– Не пойду! – тупо и зло повторяет девушка. – И никакой не Свиридов. Меня прям трясет, понимаете?
Она поворачивается и идет прочь. Старуха, поскуливая, бросается следом, и обе скрываются в дождливых сумерках. На душе скверно. Какова бы ни была Евдокия Васильевна, она ждала от меня помощи, а я их бросила на произвол судьбы. В свои восемьдесят с лишним, имея за плечами инсульт и два инфаркта, она теперь бежит куда-то за этой двадцатилетней дылдой, то ли вправду свихнувшейся, то ли мстящей таким образом за свое растоптанное достоинство и изуродованные нервы… Но не могу же я, превозмогая мигрень, как шут за королем Лиром, таскаться в потемках за сбрендившей Снежаной по кузякинским окрестностям, толком не зная, что делать!.. Одно утешение: наутро я видела обеих до крайности надутыми, но живыми и здоровыми.
Вообще похоже, что, отринув атеизм, здешние люди веру в бога обретают куда медленнее, нежели веру в озорника, засевшего под бабы-Дуниным кустом. А послушать их, так видно, до чего они плохо отличают одного от другого. И добро бы подобные наваждения овладевали только убогими и больными умами. Но если уж моя любимая Надя Артюхина подвержена той же слабости…
В свои шестьдесят Надя еще хоть куда: энергичная, стремительная, статная, с чистой выразительной речью и отменной практической хваткой. Хозяйство у Артюхиных превосходное. Взрослые дети, сын и дочь, получив высшее образование и переселившись в город, не превратились в чужих, напротив – душевная близость в семье редкостная. И это все – Надя. Односельчане ее побаиваются: слишком остра на язык, способна срывать на ближних дурное расположение духа, прикрываясь ссылками на «прямой характер» и привычку все, что думает, выкладывать в глаза. Терпеть не могу эту двусмысленную доблесть, по большей части сводящуюся к самодовольному хамству, но Надя так артистична, что даже в подобной роли, право, хороша. Обычно поболтать с ней – одно удовольствие. Однако вчера Артюхина встретила меня, пылая негодованием:
– Ты только послушай, что случилось! Я купила козу! И не у проходимцев каких-нибудь – у бывших учителей, они на том конце деревни живут, Семины. Вроде приличные люди, грамотные, я их всегда уважала… Если бы не это, осторожнее была бы, пралик их возьми! Справная такая козочка, и удои, говорили, хорошие. Привожу домой – как заколодило: молока не дает, не жрет ничего, а как съест, животом мается! Тут-то я сразу неладное заподозрила, пошла к Домне-цыганке посоветоваться, она в этих делах смыслит. Она меня сразу спросила: «А как тебе Семин козу передавал – с поводком или так?» – «Просто, – говорю, – за рога вывел, а поводок у меня был свой». Она меня ну честить: «Что ж ты, девка, наделала, надо ж было вместе с ихним поводком козу брать! А теперь они ее заколдовали, и это заклятье снять никак невозможно!» Ну, ты меня знаешь, человек я откровенный… Встретила Семина в магазине, он ко мне подкатывается, мол, как поживаете, Надежда Викторовна, а я ему при всех: вот так и поживаю, что козу вы мне заколдовали, порчу навели, я вас за честных считала, а вы колдуны и негодяи, и будьте вы прокляты! Так и сказала!
В других случаях Надя отнюдь не глуха к доводам рассудка, но когда речь заходит об этих материях, я спиной чувствую – возражать не стоит. Собеседница слишком распаляется, накал страстей такой, когда уж не до разума: того и гляди на знаменитую артюхинскую прямоту нарвешься. А для колдовства, как я здесь выяснила, на деревенской почве возможностей непочатый край. Можно купить у соседей, скажем, курицу, и если «знаешь слово», наворожить так, чтобы птица на их дворе вообще «перевелась». Можно прийти в дом, где готовятся к свадебному пиру, и пока он еще не начался, попросить что-нибудь, ну, хоть кружку кваса – и вместе с ним заглотать, похитить счастье молодых. Извести человека до смерти тоже невелика хитрость: надо только собрать землю там, где отпечатался след вражьей ноги, а потом отправиться в храм и поставить свечку за его упокой. Что бог в этом случае оказывается не то сообщником колдуна, не то обманутым им простофилей, никого не смущает. А уж сглазить с похвалой на устах, допустим, корову – это злодейство самое что ни на есть распространенное…
Положим, высмеивать деревенских простаков нет смысла: между Москвой и Кузякином в этом отношении вовсе не пролегает бездонная пропасть. Столичные жители еще безумнее – кузякинцы, те хоть денег не тратят на свои бредни. А московские газеты пестрят объявлениями вроде «Приворожу», «Сниму порчу» и т.п., они там встречаются не реже, чем деловые «Вылечу», «Отрезвлю», «Обналичу». Тебя, понятно, и обналичить могут, как липку, и порчу снимут с тем же результатом, но дикарская вера в потусторонние силы не считается с расходами. Что ж… С ней интересней жить, она дешева и общедоступна. Главное, в отличие от любой порядочной религии не обременяет смертного нравственными требованиями. С ними же, если принять их всерьез, забот не оберешься.