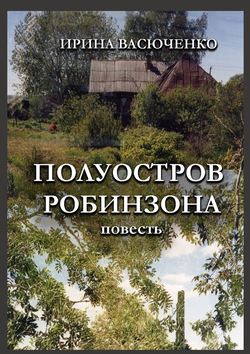Читать книгу Полуостров Робинзона - Ирина Васюченко - Страница 19
Часть первая. Черт или паралич?
Глава 5. Раздавленный пес, стеклянный глаз, гражданский долг и несвоевременные цветочки
ОглавлениеУтро того дня выдалось очаровательно ясным и свежим. Однако на западе копилось что-то густо-фиолетовое, и я решила наносить воды загодя, а то еще дождь начнется. Что до президентских выборов…
Ну да, на дворе 96-й год, сегодня Кузякино избирает президента. В предвидении этого события недели за две местная администрация озаботилась вывесить портрет главного коммуниста страны, снабженный народолюбивой цитатой. Приклеенный низковато, портрет, как водится, вскоре украсился лихими усами и надписью «Папа Зю», начертанной углем прямо на лбу. Настенная информация о каких бы то ни было иных кандидатах отсутствует, но местные бунтари, залихватски подмигивая, грозятся вознести Жириновского.
Мы решили пойти на выборы попозже, когда будет меньше народу. От здешних политических разговоров возникают эмигрантские настроения, в наши лета уже совершенно неуместные. А жители, напротив, так и норовят вовлечь нас, «грамотных», в диспут. Но совсем не для того, чтобы приобщиться к нашей якобы предполагаемой мудрости, напротив – с целью продемонстрировать, что мы им не указ. Право, впору выходить на люди с плакатом, неся над головой сообщение, традиционно украшающее нижние конечности блатных: «Они устали»…
Иду с парой ведер к колонке. Июньское солнышко играет в зеленой травке на обочине шоссе, от которой еще поднимается последний тающий парок ночной росы. Какой-то жизнерадостный развесистый бурьян, тут и там распустивший метелки мелких, но обильных ярко-желтых цветочков, щедро напояет утренний воздух их медовым ароматом. Внезапно тишину нарушает звонкий голос, прозрачный, как утро, и такой спокойный, словно кто-то громко, отчетливо читает безразличный ему текст:
– Бедная моя, что ты наделала?
Вздрогнув, оборачиваюсь. У самого края асфальтовой полосы сидит на корточках чисто одетый, аккуратный мальчик лет десяти и гладит большую мертвую собаку. Здесь их часто сбивают проносящиеся машины, так же как кошек, зазевавшихся кур и даже молодых грачей-слетков. Домашних животных хозяева в таких случаях обычно хоронят, а грачи остаются на асфальте, постепенно превращаясь в подобие грязных тряпок, при порывах ветра порой вдруг взмахивающих черным бесполезным крылом.
– Зачем ты вышла сюда, глупая? – звенит пугающе бесстрастный колокольчик. – Тебе совсем не надо было сюда ходить.
Из калитки дома напротив выскакивает взлохмаченный мужик. Его хриплый вопль немузыкален, зато полон кипучего естественного чувства:
– Ты что это творишь, падла?! Кто позволил своих дохлых псов перед моим домом разбрасывать?
Не отвечая ни слова, мальчик берет собаку за лапу и уходит, таща ее за собой. Теперь видно, что она погибла уже несколько часов назад: тело успело окостенеть. Разъяренный мужик продолжает орать мальчику вслед нечто, уже совсем не поддающееся цитированию.
– Во псих-то ненормальный, пьянь бесстыжая! – осуждающе комментирует за моей спиной незаметно подошедшая баба Дуня. – Это Коська-дурачок, он теперь здесь жить будет. Раньше хорошо было, он в «Черемушках» безобразничал, а теперь, после Дарьиной-то смерти, дом этот унаследовал. Худое соседство, ну его к пралику. Он уж давно спятил, мозги совсем прогнили…
– А что это за мальчик?
– К дачникам, вон из того дома, приехал. Видать, сын. Хороший, обходительный такой, одна жалость: от роду помешанный.
Удрученная баба Дуня машинально выковыривает из левой глазницы вставной стеклянный глаз, протирает его сомнительной чистоты фартуком и ловко вправляет на место. Я набираю ведра и иду домой. Почему вокруг так потемнело? Или это у меня в глазах?
Нет, туча подползла-таки.
На избирательный участок идем уже под зонтиками, причем если мой еще куда ни шло, то у Игоря несколько голых спиц под немыслимыми углами торчат в разные стороны. Сказал бы нам кто-нибудь лет двенадцать назад, что мы, всегда избегавшие этого рода мероприятий, однажды запасемся по месту прописки открепительными талонами и, невзирая на непогоду, за добрых полтора километра потащимся в кузякинский клуб голосовать за кандидата, который тем только и хорош, что другие еще хуже! Или все же за того, единственно симпатичного нам, с интеллигентным лицом и литературной речью, которого потому-то и не выберут?
Во всем этом есть-таки что-то от безумия.
– С праздником! – встречают нас в клубе. За четырьмя столами восседают чиновницы из правления колхоза, теперь, кажется, переименованного в акционерное общество, хотя щит с громадной надписью «Колхоз Путь Октября» по-прежнему возвещает едущим по шоссе, что социализм не покинул этих мест. Да так оно и есть: господин Зобов, возглавляющий акционерное общество, не кто иной как председатель «Пути Октября» товарищ Зобов, к которому нам когда-то пришлось идти на поклон, выпрашивая разрешение купить никому здесь не нужный домишко, вовсе не пригодный для житья в зимнюю пору. Как он тогда кобенился, принимая нас в солидном кабинете, за громадным письменным столом! С какой важностью подвергал сомнению «целесообразность» этой покупки! Боюсь – увы! – что ни на одного мужчину за всю мою жизнь я не бросала таких кротких, умильно-преданных взглядов, как на этого борова, от чьей милости зависело, сможем ли мы вывозить уже тогда прибаливавшую маму на природу, без которой она жить не могла.
– Какой уж теперь праздник? – скорбно поджимает губы бывшая председательша сельсовета, украшающая своей внушительной персоной первый стол. Ее нынешний титул мне неведом, но влиятельность, равно как и у Зобова, ничуть не уменьшилась с колхозных времен. – Вот раньше да, раньше это настоящий праздник был!
– Ничего! – кричит кто-то из топчущихся в стороне пожилых мужичков. – Скоро наша возьмет! А миром не отдадут, чего нахапать успели, так и перестреляем бизнесменов хреновых, нам не впервой!
– Потише, Митрич, больно развоевался, – окорачивает председательша, игривой, жирно напомаженной улыбкой намекая: «Погодь, мол, еще не время…»
– Да верно говорит! – влезает в разговор тетка моих примерно лет. – Что это за власть такая, если пензия фронтовикам больше моей зарплаты, да и ту вон третий месяц не дают? Я корячусь, как лошадь какая, он ни фига не делает, а получает в полтора против моего! С какой стати мне это терпеть? Подумаешь, фронтовик! Путевых-то всех поубивало, а эти, что сейчас живут, отсиделись где-то, теперь рабочий народ обжирают!
Так я и думала: сплошной электорат Зюганова. Вот и Антон Сидорович, неплохой, в сущности, дядька, видать, туда же – настигнув нас уже на выходе, преграждает дорогу:
– Что ни говорите, раньше жизнь получше была!
– Когда это? – угрюмо ворчу я.
– Ну как же, при Брежневе, Косыгине… Да ты молодая, поди, не помнишь!
– Брежнева и Косыгина помню прекрасно. Хорошей жизни не припоминаю.
– Не скажи, все-таки цены не в пример были, та же колбаса…
– Где колбаса? За ней же отсюда в Москву ездили! Еще загадка тогда была: «Длинное, зеленое, пахнет колбасой – это что такое? – Электричка Москва-Калуга».
– Ну и что? Зато съездишь, бывало, в Москву, так уж за сотню всего укупишь, а теперь сотня не деньги.
– А вы хотите, чтобы зарплата нынешняя, а цены тогдашние?
Ну вот, ввязалась-таки в бессмысленную перепалку. Игорь помалкивает, но не потому, что философ, а потому, что зуб у него болит.
– И потом, вам еще можно было добраться до Москвы, а кто дальше живет, тем каково? У меня подруга, например, в Йошкар-Оле, так она…
Зря, не стоит про это! В Йошкар-Оле сейчас по-другому, но тоже скверно, а главное, ему в глубине души плевать: пусть окраины хоть с голоду повымрут, лишь бы здесь подешевело. Но признаться в этом все же совестно, и Антон Сидорович дипломатично переводит разговор на другое:
– Ты-то чего споришь? Вы, что ль, с мужиком богато живете? Добро бы ты обогатела, тогда конечно… А ведь тебя приодеть если, – он оглядывает мою особу стремительно яснеющим взором исследователя, рождающего открытие, – красивая ж баба будешь! Как.., – мгновение он колеблется, не слишком ли осчастливит меня, но, великодушный, решает не скупиться, – как Людмила Зыкина!
Пошатнувшись под тяжестью столь увесистого комплимента, я с трепетом представляю мощную фигуру звезды народной и советской песни, всю в сверкающих позументах. Похоже, я в нокдауне. Антон же Сидорович вдруг прибавляет словно бы вскользь:
– Сам-то я за Ельцина голосовал. Хоть как-то все наладилось, и опять перемены – это ж сколько можно над народом измываться?
Через пару дней, когда было уже известно, что большинство в районе проголосовало за коммунистов, меня по дороге из сельсовета (по странному капризу природы, хлеб теперь продается не в магазине, а в одной из комнат двухэтажного сельсоветовского здания) окликнула одна из местных старушек:
– Девк, поди, что скажу!
«Девками» здесь именуют всех лиц женского пола, кроме тех, кого зовут «бабками», и я все еще состою в первой категории. Зато моя собеседница – давно и непоправимо «бабка». И уж окончательно сдала с прошлого года, когда утонула ее юная внучка. Вроде бы несчастный случай, но были там подозрительные обстоятельства. Она меня тогда вот так же перехватила на улице и долго, плача, втолковывала: Ксюшу убили! С тех пор она ко мне благоволит – за бесполезное терпение, с каким выслушала. В милиции вникнуть не пожелали.
– Да, Матрена Тихоновна?
– Это что ж теперь, неужто снова большевики придут?
Я пожимаю плечами: посмотрим, дескать. И вдруг ее прорывает. Дряхлая женщина со слоновьими ногами и слезящимися глазами, с каждым словом закипая все сильнее, начинает рассказывать. Про то, какой был – вон там, над речкой! – чудный монастырь, большой, богатый, и за лесом монахи ухаживали, расчищали – разве такой лес-то был, как нынче, заваленный весь? И как всех здешних мужиков, кто монастырь защитить хотел, отвели к околице и расстреляли. «Думаешь, отчего ту поляну у последнего дома Могилками называют? Там и закопали, вот почему!»
Голос у бабы Матрены становится все громче, по щекам текут слезы. Теперь она рассказывает, как пришли забирать отца. Они ждали уже, боялись, так что дверь бы не открыли, но те соседа с собой захватили, он крикнул: «Открой, Фекла, это я!», ну, мать и отперла. «Когда уводили его, мы с братом все следом бежали, плакали, а они нас били, чтоб отстали…» Слезы вдруг высыхают, в голосе такая ярость, какой никто бы не ждал от рыхлой, вялой старухи, вечно и скучно жалующейся на хвори:
– А знаешь, кто из здешних самый главный палач был?
Объясняет жарко, торопливо, непонятно, однако до меня в конце концов доходит, что речь идет о маленьком опрятном старичке, каждый день проходящем с кошелочкой мимо нашей калитки – за покупками. Вежливый, елейно-тихий. Может, вся его страшная память давно отшиблена каким-нибудь инсультом?
– Еще два было, да те уж сдохли! – выкрикивает баба Матрена торжествующе. – И Бог, он себя оказал! Другой и в гробу лежит как человек, а эти оба враз прогнили, под крышкой нести пришлось!
Запыхавшись от долгого монолога, она дышит шумно, с присвистом. Потом заключает мечтательно:
– Мне бы власть, я все бы припомнила. Всем! И детям ихним, и внукам!
– Не надо об этом, – бормочу я. – Послушайте… У меня пионы очень разрослись. И лилии. Еще гайлардии, это, ну, такие оранжевые. Хотите, поделюсь?
– Если не жалко… Ох, хорошая ты, девк, дадучая, а то ведь какие люди бывают – зимой снега не дадут! Только ты вот что… Про наш разговор… Мне хотя жить теперь ни к чему, скорей бы уж помереть, одного только и хочу, чтоб бог прибрал, а все ж дочка есть в городе, в конторе работает, она без мужа… и внучек еще малый, Митя… Ты никому не передавай, кто ж теперь знает, как оно… А за цветами осенью зайду, сегодня сажать уж поздно.
«Сегодня» здесь значит – сейчас, будь то в этот день, месяц или год.