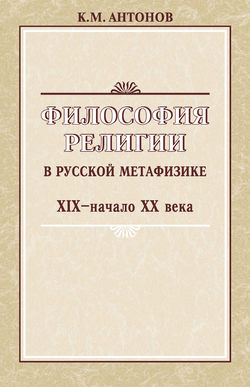Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Истоки и предтечи: становление философии религии и ее развитие в русской философии середины XIX в.
Философия религии в русской мысли середины XIX века
А. С. Хомяков
ОглавлениеДальнейшее развитие намеченного И. В. Киреевским понимания веры мы находим у другого крупнейшего славянофильского мыслителя – А. С. Хомякова[103]. В цикле его философских статей конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в. вера предстает как одна из основных, наряду с волей и рассудком, структур целостного разума: «Разум точно так же не может сомневаться в своей творческой деятельности – воле, как и в своей отражательной восприимчивости – вере, или окончательном сознании – рассудке»[104]. Вера характеризуется здесь Хомяковым как «зрячесть разума» – живое, целостное, непосредственное восприятие предмета, «живое знание», предшествующее и воле, осуществляющей различение внешнего и внутреннего мира, и рассудку, на основе своих понятийных схем формирующему предметное знание и соответствующий ему «мир объектов». Религиозную веру в смысле Киреевского Хомяков предлагает здесь рассматривать как высшую ступень этой веры как живого знания вообще[105]. Поскольку вера выступает здесь, таким образом, и как первичная, и как высшая форма деятельности разума, религиозная жизнь человека оказывается определяющей для всех остальных сторон и форм его жизни и знания. Эта общефилософская концепция, в основе которой лежит обобщающая рефлексия мыслителя над своим собственным внутренним опытом, вполне соответствует тем принципам исторического исследования религии, которые нашли свое выражение в его «Записках о всемирной истории», знаменитой «Семирамиде».
Здесь А. С. Хомяков различает три основных измерения человеческой жизни – природное, социальное и духовное бытие человека, – в соответствии с которыми в географической и исторической науке намечается три деления: по племенам, по государствам и по верам. При этом именно последнее деление фактически оказывается основным в его труде. Хомяков, как писал Л. П. Карсавин, «первый вскрыл в религиозном процессе существо процесса исторического»[106]. Существенно при этом, что Хомяков не рассматривает религиозный процесс отдельно от этнографического и политического, но, не редуцируя их друг к другу, пытается установить основные закономерности их взаимодействия в конкретной истории.
Итак, и в соответствии с указанным выше антропологическим пониманием, и исторически «вера есть совершеннейший плод народного образования, крайний и высший предел его развития. Ложная или истинная, она в себе заключает весь мир помыслов и чувств человеческих»[107]. Возвышаясь до мысли о Божестве, человек «в ней находит венец своего существования. Темно ли, ясно ли его понятие, вечной ли истине или мимолетному призраку приносит он свое поклонение, во всяком случае вера составляет предел его внутреннему развитию. Из ее круга он выйти уже не может, потому что вера есть высшая точка всех его помыслов, тайное условие его желаний и действий, крайняя черта его знаний. В ней его будущность, личная и общественная, в ней окончательный вывод всей полноты его существования, разумного и всемирного»[108]. Существенно при этом, что не только «все понятия, все страсти, вся жизнь получают от нее особенный характер», но и «они в свою очередь запечатлевают на ней неизгладимые следы свои»[109].
Как видно из этих цитат, с формальной точки зрения место веры в истории народа не зависит, по Хомякову, от ее истинности или ложности, что опять-таки открывает простор для объективного изучения религиозных феноменов. Типологически Хомяков выделяет три основные формы религии: политеизм, пантеизм, монотеизм, полагая все остальные (например, дуализм) их видоизменениями. Однако более внимательный анализ религиозной жизни вскрывает, согласно Хомякову, постоянное взаимодействие двух начал, переплетение и борьба которых и порождают все существующие конкретные формы религиозности. Эти начала он, по предположительным местам происхождения племен – их первоначальных носителей, – обозначает терминами «иранство» и «кушитство».
Основополагающее различие между ними, по Хомякову, «определяется категориями воли»[110]: иранство есть религия свободы, кушитство – религия необходимости. Отсюда выводятся и последующие характеристики: иранство есть религия духа, происхождение мира она описывает как акт свободного творения[111], ей свойственна аскеза как отчуждение от вещественного и очищение от чувственных склонностей, в области культуры она развивает прежде всего нравственную философию и поэзию, ее архитектурным символом является башня. С другой стороны, иранство склонно к фанатизму и гордости[112]. Кушитство, напротив, есть религия стихийности, вещественности, происхождение мира в ней – акт естественного порождения, изначально ей чужды понятие стыда и аскеза, хотя свойственно доброжелательство к другим. В культуре эта религия проявляется в виде гнозиса, как знания законов этого мира необходимости, и высокой художественной культуре, прежде всего – архитектуре, в которой ее символом является высеченная пещера. Ее основной негативный момент – поклонение естественным склонностям, культивирование разврата[113]. Обе религии изначально «одноначальны», но в кушитстве первоначало проявляется далее «в органической полярности», т. е. как единство противоположностей, в иранстве же заложен «зародыш дуализма антагонистического», имеющего яркую нравственную окраску. Обе системы в своем развитии приходят к многобожию, но каждая сообщает особый характер новым богам[114].
Следует особо отметить, что обе изначальные религии, с точки зрения Хомякова, как философа и историка религии, есть религии естественные, отвечающие определенным духовным потребностям человека, притом что ни одна из них, по причине своей односторонности, не может удовлетворить их вполне (что и является одной из причин смены религий и религиозных настроений в истории народов). Более того, Хомяков отнюдь не склонен отрицать присущие древним религиям элементы грубого антропоморфизма, воспринимая в этом отношении идеи Фейербаха и Ксенофана:
«Характер божества более или менее согласуется с характером народа, который ему поклоняется. Иначе быть не может. Покуда люди не поставятся выше самих себя благодеянием духовного просвещения[115], они в боге будут воображать только себя в больших размерах. Общечеловеческое, чистый образ Бога, для них недосягаемо, и невежественное желание быть богоподобными[116] заставляет их делать божество человекоподобным со всеми приметами несовершенного, т. е. племенного, человеческого развития»[117].
Поскольку речь здесь идет именно о философии религии Хомякова, я остановлюсь только на основных принципах и подходах к изучению религии и ее истории, которые он разработал. Прежде всего следует заметить, что, не будучи сторонником теории прамонотеизма, разделяемой большинством апологетически настроенных историков и философов религии, Хомяков был, тем не менее, решительным противником примитивного эволюционизма. «Невозможно решительно утвердить, какая форма верования прежде всех появилась на земле». Однако «нет ни малейшего права предполагать, чтобы понятия о вере шли совершенствуясь постоянно и, следовательно, что древнейшие формы были в то же время самыми грубыми»[118]. Теория прогресса есть чистый «априоризм», не имеющий достаточных эмпирических оснований, порождение «страсти» и слепой веры в старые системы.
Именно на первом этапе существования религии ее основные типы («иранство» и «кушитство») существовали в наиболее чистом и свободном виде. Однако существование этого периода можно только постулировать, основываясь на данных последующей истории, наука же имеет дело уже только со смешанными, составными племенами и религиями[119]. Эта «вторая эпоха есть эпоха унижения, огрубения понятий, одичания жизни»[120]. В этом отношении Хомяков близок к классической богословской прамонотеистической схеме. Существенно, однако, что, как философ, он не просто постулирует наличие фазы упадка, но пытается обнаружить и описать его конкретный механизм. Поскольку исторически вера всегда есть вера народа, а не индивидуальное убеждение, наибольшее значение здесь имеет взаимодействие религиозного фактора с племенным.
Описание Хомяковым механизма распространения и видоизменения религиозных верований больше всего напоминает концепцию диффузионизма, предложенную в начале XX в. Фр. Ратцелем и развитую B. Шмидтом[121].
Первоначальный обмен религиозными идеями носил, по-видимому, мирный характер: «Семя мысленное переносилось в слове из края в край земли и синкретизм религиозный возникал из духовного размена»[122]. При этом «кроме грубого сращения разных мифологий и обрядов должно было происходить взаимное проникновение смысла и символа»[123].
Однако с началом межплеменной борьбы начинается и борьба идей (Хомяков, разумеется, отнюдь не сводит одно к другому). Она имеет целый ряд разнообразных форм и следствий. Именно эта борьба уничтожает красоту и гармонию свободно развивающейся мысли, доводит противоположные религиозные (и соответствующие им философские) системы до логического завершения и крайности, противоречащей здравому смыслу. Она же, по закону антропоморфизма, производит освящение жестокости: «Разгар всех злых страстей, кровожадность, человеческие жертвы и вся мерзость фанатизма владычествуют в тех странах, где было столкновение племен и вер разнородных. Небо всякой мифологии есть отражение земли, и злость людей выражается злостью богов»[124].
Другим следствием столкновения племен является смешение мифологических пантеонов. При этом мифический персонаж, «переходя в другой мифологический мир, к прежнему своему значению присоединяет еще новый характер, зависящий от отношений народа-изобретателя и народа, принявшего чуждое божество»[125]. Тем самым возникает возможность своего рода герменевтического исследования, выявляющего историческую картину движений и отношений древних народов на основе изучения структуры их мифологий в связи со сравнительным изучением языков. Мифология, по Хомякову, оказывается весьма сложным образованием, в котором выражается и характер, и история, и мировоззрение, и этос народа, закладываются основания его философии.
Следует отметить, что Хомяков различает в истории два вида борьбы идей: «происшедшую из случайного и внешнего столкновения» и «вызванную неудовлетворенною жаждою истины»[126]. Они различаются и по своим психологическим характеристикам, и по своим историческим следствиям. Соответственно, параллельно деградации религиозного сознания происходит процесс его очищения и развития.
«Семирамида» не закончена Хомяковым, вследствие чего остается неясным, как он представлял себе логику перехода от естественной религиозности иранства и кушитства (включая религию древнего Израиля, которую философ рассматривал как наиболее чистое выражение иранского начала) к христианству. Ясно лишь, что последнее стоит в истории религии особняком именно потому, что ставит человека выше него самого и дает ему чистый, общечеловеческий (неплеменной) образ истинного Бога[127]. Влияние племенных начал, однако, сохраняется, и «индивидуальность народов не теряет своих прав»[128] и здесь. Чистота христианства так же искажается действием вражды и страсти. Основным искажающим началом, приходящим из древности, становится, по Хомякову (как и у Киреевского), рационализм, формами развития которого являются католицизм и протестантизм. Чистота христианства сохраняется, однако, благодаря Церкви, которая есть не просто собрание верующих, но особая онтологическая реальность: «единство Божьей благодати, живущая во множестве разумных творений, покоряющихся благодати»[129]. Однако при описании этой реальности в своих богословских работах Хомяков оставляет язык философии религии и переходит, вполне оправданно, на язык богословия, что и выводит их за пределы данного рассмотрения[130].
Отмечу только, что и богословие Хомякова и в своем содержании, и в своем методе опирается на такое же понимание веры, хотя и выраженное, возможно, не столь терминологически точно: «Вера не только мыслится или чувствуется, но и мыслится, и чувствуется вместе; словом – она не одно познание, но сразу познание и жизнь». Важным дополнительным моментом является здесь соотнесение понятия веры с понятием откровения, которое берется здесь Хомяковым, прежде всего, как факт религиозного сознания: «Вера всегда есть следствие откровения, опознанного за откровение». Отсюда и специфический характер богословской рациональности, понимаемой как «процесс исследования в применении его к вопросам веры». Прежде всего, здесь не работает привычная субъект-объектная схема научного исследования, поскольку «в области веры мир, подлежащий исследованию, не есть мир, для человека внешний; ибо сам человек и весь человек всею целостью разума и воли составляет существенную часть его». Вследствие этого и процесс познания предстает здесь не как череда сомнений и доказательств, а как «процесс осмысленного раскрытия» данных веры[131]. Забвение этих обстоятельств западным богословием и обусловило его чрезмерную зависимость от античных философских и юридических схем, в нем именно и состоит, по Хомякову, пресловутый «рационализм», заразивший и православное школьное богословие.
Таким образом, если конкретные эмпирические результаты и гипотезы Хомякова, разумеется, давно устарели, представляется, что многие предложенные им принципы философского и исторического исследования религии (в частности, постановка, вслед за Киреевским, вопроса о соотношении позитивных и негативных моментов взаимодействия языческого и христианского религиозного сознания) и методологии богословия, равно как и присущий ему пафос объективности (в смысле непредвзятости) исследования, до сих пор сохраняют свое значение.
Основы философии религии славянофилов, заложенные Киреевским и Хомяковым, получили дальнейшее развитие в трудах Ю. Ф. Самарина, рассмотрению которых (в частности, в силу их относительной малоизученности) будет посвящен особый раздел. Однако предварительно представляется необходимым рассмотреть идеи представителей двух других важнейших направлений русской метафизической мысли: атеистического (М. А. Бакунин) и теистически-академического (П. Д. Юркевич).
103
Ряд аспектов философии религии Хомякова рассматривался в следующих работах: Самарин Ю.Ф. Предисловие к богословским сочинениям А. С. Хомякова // Соч. Т. 6. С. 329–370; Лясковский В.Н. А. С. Хомяков. Его жизнь и сочинения. М., 1897; Завитневич В.З. А. С. Хомяков. Т. 1–2. Киев, 1902; Бердяев Н.А. А. С. Хомяков. М., 1911; Флоренский П.А. Около Хомякова // Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 278–337; Карсавин Л.П. А. С. Хомяков // Карсавин Л.П. Малые сочинения. СПб., 1994. С. 361–376. В современной литературе они так или иначе поднимаются либо в связи с философией истории Хомякова, либо в связи с его богословием, очень редко – в связи с гносеологией, но почти никогда не рассматриваются самостоятельно. См.: Cristoff P. K. An Introduction to the nineteenth-century Russian Slavophilism. A Study in Ideas. V. 1: A. S. Khomjakoff. P., 1968; Керимов В.И. Историософия Хомякова. М., 1989; Каменский З.А. Философия славянофилов: И. В. Киреевский. А. С. Хомяков. СПб., 2003; Белов А. В., Новикова Р.П. Типология культуры А. С. Хомякова. Ростов, 2004; Михайлюкова Н.Н. Экзистенциальные истоки и основания богословствования А. С. Хомякова: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. филос. наук. Тула, 2004; отметим также ряд юбилейных сборников и материалов конференций: Духовное наследие А. С. Хомякова: теология, философия, этика: Материалы науч. конф. Тула, 2004; Духовное наследие А. С. Хомякова: теология, философия, этика: Юбилейный сборник. Тула, 2003; А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист: Сб. ст. по материалам межд. науч. конф. Т. 1–2. М., 2007.
104
Хомяков А.С. Собр. соч. Т. 1. М., 1911. С. 343.
105
Там же. С. 282.
106
Карсавин Л.П. А. С. Хомяков. С. 373.
107
Хомяков А. С. Семирамида // Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 148.
108
Там же. С. 22.
109
Там же. С. 148.
110
Там же. С. 188.
111
Там же.
112
Хомяков А. С. Семирамида. С. 178.
113
Там же. С. 177, 188–189.
114
Там же. С. 203.
115
Хомяков имеет в виду христианское откровение.
116
Невежественное не само по себе, а по характеру и способу реализации.
117
Там же. С. 153.
118
Хомяков А. С. Семирамида. С. 137.
119
Там же. С. 141.
120
Там же. С. 139.
121
См.: Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007.
C. 85–93.
122
Хомяков А. С. Семирамида. С. 141.
123
Там же. С. 142.
124
Хомяков А. С. Семирамида. С. 173–174.
125
Там же. С. 163.
126
Там же. С. 181.
127
Уже вследствие этого христианство нельзя просто отождествлять с иранством, даже если рассматривать его как иранство par excellence, как это часто делается в литературе. О безоценочности противопоставления иранства и кушитства см.: Белов, Новикова. Типология культуры А. С. Хомякова. С. 67.
128
Там же. С. 132.
129
Хомяков А. С. Церковь одна // Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 5.
130
Разумеется, в связи с богословскими статьями и брошюрами Хомякова можно говорить не только о его богословии, но и о его «философии христианства» – сознательном, отрефлектированном понимании сущности христианства, его происхождения, его истории.
131
Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина о западных исповеданиях. По поводу брошюры г. Лоранси // Соч.: В 2 т. Т. 2: Работы по богословию. М., 1994. С. 25–71, здесь с. 50.