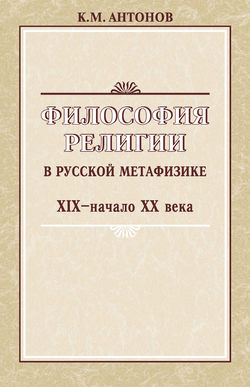Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. Философия религии в русской идеалистической метафизике конца XIX в.
В. С. Соловьев
История и феноменология религии
ОглавлениеРассмотренное выше обоснование общих основ религиозного мировоззрения позволяет Соловьеву в дальнейшем обратиться к анализу смысла и взаимосвязи основных феноменов религиозной жизни, с одной стороны, и к рассмотрению логики истории мировых религий – с другой. Обратимся прежде всего к историческому аспекту[318]. Наиболее полно, но и наиболее схематично он представлен в упоминавшемся уже «Законе исторического развития», в котором исторический процесс оказывается практически сведен к религиозному, а последний предстает в единстве указанных трех основных аспектов: творческого (опытного), интеллектуального и социального. Эта схема в дальнейшем конкретизируется в целом ряде работ, причем каждый раз под особым углом зрения. Однако наиболее ярко и четко логика исторического и, соответственно, религиозного процесса (за исключением его социального, институционального аспекта) нашла свое воплощение в «Чтениях о Богочеловечестве», где она к тому же «вписана» в логику мирового процесса в целом. В дальнейшем я буду основывать свое изложение именно на этом тексте Соловьева, дополняя его, где это необходимо, обращением к параллельным местам из других произведений философа.
«Чтения…», как писал о. В. Зеньковский, «по своему общему плану, дают философию религиозного процесса в человечестве»[319]. Соловьев определяет здесь религию предельно широко, как «связь человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего»[320]. Тем самым история религии предстает у него как своеобразная ось мирового процесса в целом, поворотные события истории религии оказываются поворотными событиями истории мира. Любой акт мировой истории рассматривается здесь в религиозных терминах в связи с общим отпадением мира и человека от Бога и их возвращением к Нему, т. е. как грехопадение и обращение[321].
Монадология, намеченная в «Критике отвлеченных начал», здесь получает более подробное и последовательное развитие. Не останавливаясь на этом аспекте содержания «Чтений…», имеющем отношение в большей степени к метафизике, чем к философии религии, отмечу только, что учение об иерархии монад позволяет Соловьеву выстраивать диалектику социальных и метафизических процессов истории европейского человечества, истории религии, человечества в целом и, наконец, мировой души, как предельного субъекта мирового процесса, по образцу личного падения и обращения к Богу реализующего таким образом свою свободу отдельного человека.
Обоснование религиозного мировоззрения, предложенное Соловьевым в «Чтениях…», отличается от того, что мы находим в ФНЦЗ и «Критике…», лишь большей популярностью, сравнительной подробностью тех или иных сторон и свободой изложения (в публичных лекциях Соловьев не чувствовал себя скованным формальными академическими требованиями). В общем и целом он вновь идет по пути совмещения рационального обоснования необходимости мыслить Абсолютное Сущее, причем мыслить Его именно как триединство, с указанием на Его непосредственную данность во внутреннем опыте. Это дает возможность сосредоточиться здесь преимущественно на исторических аспектах. Они вводятся Соловьевым через установление аналогии между сущностной структурой конечного (личного человеческого), бесконечного (божественного) духа и динамикой исторического процесса.
Эта структура задается тремя основными моментами: момент первоначальной нераздельности, или цельности, духовного субъекта; момент раздельной сознательной жизни этого субъекта – «проявление или обнаружение нашего духа… во множестве различных проявлений»; момент рефлексивного возвращения к себе «от этих проявлений или обнаружений», когда мы можем «утверждать себя актуально как единого субъекта, как определенное я, единство которого через свое проявление во множестве состояний и действий сознательной жизни не только не теряется, но, напротив, полагается в усиленной степени»[322], т. е. как самосознание. Итак, первоначальное единство как бы разлагается во множество моментов и затем восстанавливается в единстве самосознания. Прежде всего эта структура рассматривается Соловьевым как модель для конструирования жизненного цикла Абсолютного субъекта в ходе знаменитой дедукции троичного догмата в Шестом чтении[323].
Однако в то же время эта структура должна рассматриваться и как условие возможности самопознания субъекта, и на определенном уровне глубины это самопознание предстает как опыт, который нельзя квалифицировать иначе как религиозный: «Когда мы погрузимся в ту немую и неподвижную глубину, в которой мутный поток нашей действительности берет свое начало, не нарушая ее чистоты и покоя, – в этом родоначальном источнике нашей собственной духовной жизни мы внутренно соприкасаемся и с родоначальным источником жизни всеобщей, существенно познаем Бога как первоначало или субстанцию всего, познаем Бога Отца»[324]. Луч самосознания направляется в этом случае на саму «первоначальную нераздельность» субъекта и погружается в нее, как бы растворяется в ней, при этом, однако, не исчезая совершенно.
Указанным трем моментам жизни духа соответствуют три основные формы человеческого мышления, при рассмотрении которых логическая последовательность дополняется временной: первичное органическое мышление – народное творчество, мышление народных масс; распадение этой целостности, выделение «так называемых образованных или просвещенных людей, отделившихся вследствие большого формального развития умственной деятельности от непосредственного народного мировоззрения, но не достигших цельного философского сознания» – механическое мышление, анализ, разложение действительности; наконец, органическое мышление истинных философов, подлинно религиозное мышление, восстанавливающее утраченную на уровне просвещения цельность[325]. Тем самым, Соловьев решает задачу нахождения места религиозной философии (и своего собственного) в цикле становления рефлексивных практик религиозной традиции. Причем надо заметить, что эта циклическая схема становления отдельной традиции сочетается с поступательной схемой развития мировой истории в целом, на которую обычно обращают внимание исследователи. В действительности же история, по Соловьеву, отнюдь не сводится к однонаправленному прогрессу – последний сочетается у него с цикличностью жизни отдельных религиозно-культурных традиций, что, без сомнения, делает его схему более богатой и реалистичной.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
318
Подробный анализ философии истории Соловьева, а также ее интерпретаций отечественными и западными исследователями см. в кн.: Максимов М.В. Владимир Соловьев и Запад: невидимый континент. М., 1998. См. также Максимов М.В. Историософия Вл. Соловьева в отечественной философской мысли // Соловьевские исследования. Вып. 2. Иваново, 2001. С. 5–39; Козырев А. П. Две модели историософии в русской мысли (А. И. Герцен и Г. В. Флоровский versus софиология) // Там же. С. 73–85.
319
Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 1. С. 36.
320
Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 5.
321
См. об этом мою статью: Антонов К.М. Концепт религиозного обращения в философии В. С. Соловьева // ВПСТБИ № 2. М., 2004. С. 159–189.
322
Соловьев В. С. Чтения… С. 87.
323
См., например: Там же. С. 85.
324
Соловьев В.С. Чтения… С. 82.
325
Там же. С. 91–92.