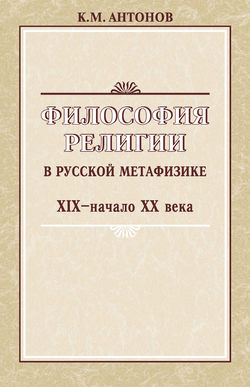Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. Философия религии в русской идеалистической метафизике конца XIX в.
В. С. Соловьев
Онтологические основы и гносеологическая ценность религии
ОглавлениеОбратимся к «Критике отвлеченных начал».
Уже само различение положительных и отвлеченных начал, из которых первым «присуще значение религиозное и жизненное», а вторые «имеют характер научный и школьный»[273], ставит нас перед важнейшей проблемой философии религии – проблемой соотношения веры и разума. Решая ее, Соловьев прежде всего в духе Августина и Ансельма указывает на относительность самого различения. С одной стороны, немыслима абсолютно пассивная, абсолютно «слепая» вера, никак разумно не относящаяся к своему содержанию. Более того, «культурным религиям» присуще стремление к сознательному рациональному оформлению этого содержания, присущ философский и научный элемент[274]. С другой стороны, «отвлеченные начала» «на самом деле кладут в свою основу такие предположения, которые, не имея ни логического, ни эмпирического оправдания, могут приниматься только на веру». Отсюда – их борьба с религией «не есть борьба разума против веры, а только борьба одной веры против другой»[275]. Основания для синтеза веры, философии и науки заключаются, по Соловьеву, в их обращенности к разным сторонам реальности: вера направлена на субстанциальное существование вещей, философия – на его логические условия, наука – на их внешнее обнаружение, «бытие для другого». Противоречие возникает здесь лишь постольку, поскольку отвлеченные начала склонны утверждаться в своей исключительности[276], ставить себя как часть на место целого[277].
Тем самым «критика отвлеченных начал» оказывается, по существу, не чем иным, как рациональным оправданием начал положительных[278]. И в этом отношении религиозная проблематика в системе Соловьева возникает первоначально в рамках этики как проблема общественного идеала.
Эмпирическая этика, даже если она сможет верно сформулировать основные правила нравственного поведения, не может, оставаясь в сфере фактов, объяснить их преимущество перед противоположными фактами и правилами: «Факт, рассматриваемый только как факт, не заключает еще в себе своего рационального оправдания»[279]. Кроме того, последовательное рассмотрение принципов эмпирической морали приводит Соловьева к признанию, в качестве предельного или верховного практического принципа, принцип Шопенгауэра: «Стремись к освобождению всех существ от всякого страдания»[280]. При этом, однако, приходится признать, что воля, обнаруживаемая нами в опыте, всегда гетерономна, определена внешним и, следовательно, по определению, страдает, а, значит, оказывается не в состоянии осуществить собственный верховный принцип. Отсюда естественно возникает вопрос об условиях ее автономности, причем становится ясно, что этот вопрос не может быть разрешен никакой эмпирической теорией, имеющей дело только с волей гетерономной. Тем самым возникает вопрос о рациональном, постигаемом разумом a priori, критерии нравственного поведения. Таковым Соловьев признает кантовский категорический императив, указывая, однако, на его (и любого другого возможного рационального критерия нравственности) ограниченность: здесь не может получить разрешения вопрос об условиях возможности осуществления нравственного действия в объективной действительности. Следовательно, «субъективная этика… необходимо требует знания этики объективной, т. е. учения об условиях действительного осуществления нравственных целей»[281].
Тем самым Соловьев переходит в сферу проблем социальной философии, сохраняя прежний порядок их рассмотрения. Как идеологи буржуазных обществ, защищающие общественный status quo, так и стремящиеся к его изменению сторонники социализма едины в том, что признают определенный, эмпирически данный или возможный экономический порядок, как таковой, справедливым или несправедливым, тем самым «ограничивая существенное значение человека экономическою областью»[282]. В то же время они не имеют возможности ограничиться этой областью, поскольку требование справедливого, т. е. правомерного, распределения материальных благ само исходит не из эмпирических, а из рационально определяемых принципов и «необходимо переводит нас из экономической области в юридическую и политическую»[283].
Именно здесь и возникает, по Соловьеву, необходимость перехода к религиозной проблематике, поскольку в обществе, ограничивающем свое бытие только экономической и политической сферами, «является очевидное противоречие между формой и содержанием, между целями и средствами…: человек употребляет свою лучшую часть, свою человечность (свободу и разум) единственно на служение низшей (т. е. животной. – К.А.) природе»[284]. Это противоречие снимается только при обращении человека к абсолютной цели, при подчинении им себя безусловному, т. е. «такому, который сам по себе желателен»[285] объекту. В этом обращении реализуются присущие человеку мистические влечения, поднимающие его (по крайней мере в интенции) над уровнем чисто человеческого существования. В общественном плане на этой основе возникает «единение существ, определяемое безусловным или божественным началом в человеке, основанное психологически на чувстве любви и осуществляющее собою положительную часть общей нравственной формулы… общество мистическое или религиозное, т. е. церковь»[286].
В дальнейшем Соловьев развил основные моменты своей экклесиологии, которая одновременно может рассматриваться как философское учение о религиозной традиции вообще и христианстве как религиозной традиции в частности, в «Духовных основах жизни», «Истории и будущности теократии», «России и вселенской церкви» (первые наметки этого учения присутствовали еще в «Софии»). В «Критике отвлеченных начал» он только намечает эту проблематику – прежде всего как типологию возможных мыслимых вариантов отношений Церкви и государства, связанных с различными представлениями о Боге и Его отношении к миру и человеку.
Отвлеченное понятие о Боге, «внешнем человеку и природе, исключительном и в себе замкнутом»[287], связано с концепцией «отвлеченного клерикализма», характерной для западной церкви. Здесь возникает идеал «насильственной теократии», связанной с подавлением рационального и природного начал в человеке в личной сфере, и стремлением к внешнему насильственному подчинению гражданского и экономического общества духовному[288].
Неудача отвлеченного клерикализма ведет к компромиссу борющихся сторон по принципу «свободная церковь в свободном государстве». Этот отвлеченный дуализм, по Соловьеву, также не может быть достаточно обоснован, и потому он одинаково неустойчив как логически, так и исторически: как государство, так и теократия в действительности стремятся к осуществлению тотального господства над обществом и культурой. Выход из ситуации возможен лишь при принципиально ином подходе к представлению о Боге и Его отношениях к миру и человеку, когда «божественное начало в своей истине… все собою обнимает и не может исключать никакого начала или элемента бытия»[289], т. е. предстает как всеединство, элементы которого связаны между собой не отношениями взаимного ограничения и обособления, но взаимного дополнения и восполнения, т. е. безусловной любви. В этом случае и в нормальном обществе мирской элемент оказывается к божественному «в отношении свободного подчинения»[290]. Таким образом, Соловьев конструирует соответствующий концепции всеединства «идеал свободной общинности» и получает «полное определение человека или человечества с точки зрения религиозного начала…: существо, содержащее в себе (в абсолютном порядке) божественную идею, т. е. всеединство, или безусловную полноту бытия, и осуществляющее эту идею (в естественном порядке) посредством разумной свободы в материальной природе»[291].
Однако, сконструировав свой общественный идеал и придя к постановке религиозной проблемы (вне которой сделать это оказалось невозможным), Соловьев приходит к границе этики. Разрешение религиозной проблемы и связанный с этим вопрос о возможности реализации этого идеала возможны только в рамках метафизики и обосновывающей ее гносеологии. Только здесь оказывается возможным разрешить три главных вопроса религиозного мировоззрения: «1) о подлинном бытии всеединого существа или Бога; 2) о подлинном бытии человека как существенного члена во всеедином, т. е. о вечности человека или, с отрицательной стороны, о независимости его по бытию от естественного порядка, т. е. о его бессмертии, и, наконец, 3) вопрос о самостоятельности человека в его деятельности, т. е. о его свободе»[292].
Мысль Соловьева движется здесь тем же путем, что и при рассмотрении этических и социальных вопросов: от рассмотрения различных вариантов эмпиризма и рационализма к обоснованию (на сей раз теоретическому) концепции всеединства. Как и в этике, претензии эмпиризма и рационализма на обоснование полной теории знания и бытия оказываются несостоятельны.
Как и в этике, опыт может дать нам лишь факты и отдельные связи между ними, необходимость которых, однако, может быть указана только разумом. Этого, однако, также оказывается недостаточно, поскольку понятие также не может играть роль критерия истины, как и ощущение: оба они суть только отношения субъекта к истинному предмету, т. е. только состояния его сознания, которые сами по себе суть ничто. Истина же, по самому своему понятию, «есть независимо от того, ощущаем ли мы ее, мыслим ее или нет»[293].
Проводя различение «бытия», существующего только относительно некоторого субъекта, как его предикат, и «сущего», существующего безусловно, как субъект, обладающий многими предикатами, но несводимый к ним, Соловьев определяет далее истину как «сущее всеединое», как существующее, содержащее в себе все в единстве, т. е. как Абсолютное[294]. Такое понимание истины (а оно, по Соловьеву, необходимо по чисто формальным причинам) ведет его к необходимости переосмысления всей теории знания. Как эмпиризм, так и рационализм обособляют познающий субъект, замыкают его в себе и, тем самым, ведут к скептицизму. Преодолевая эту замкнутость, Соловьев открывает сферу допредикативного человеческого опыта: «Всякое действительное видимое взаимоотношение наше с предметом, в ощущениях ли или в отдельных актах воображения, необходимо предполагает некоторое невидимое, первее актуального сознания, взаимодействие наше с предметом»[295].
Этот допредикативный опыт отождествляется Соловьевым с мистическим знанием: «Отрешаясь от всех определенных образов бытия, от всех ощущений и мыслей, мы в глубине своего духа можем находить безусловно-сущее как такое, т. е. не как проявляющееся в бытии, а как свободное или отрешенное от всякого бытия»[296]. Это переживание единства с Абсолютным, «внутреннее восприятие безусловной действительности», чуждо всякой множественности и относительности, здесь «все сливается в одно непосредственное и безразличное чувство»[297]. Оно, однако, вовсе не сводится только к познанию Абсолютного, но «является условием (и необходимым составным элементом. – К.А.) всякого предметного знания»[298]. Определение исходной точки этого опыта как чувства естественно повлекло за собой сопоставление концепции Соловьева с идеями Шлейермахера[299]. Гораздо точнее, однако, Соловьев здесь же называет его «верой», следуя в этом отношении славянофилам: А. С. Хомякову и Ю. Ф. Самарину. Здесь Соловьев реализует то, что в «Чтениях…» было едва намечено: вера, как не имеющая ни рационального, ни эмпирического основания уверенность в существовании предметов опыта, опирается на специфическое взаимодействие субъекта с предметом познания, предшествующее самому познанию и также заслуживающее наименования веры. В этом взаимодействии субъект и предмет не просто граничат друг с другом, но взаимопроникают друг в друга, соединяются, что возможно только потому, что бытие обоих «имеет основание в одном и том же безусловном существе»[300], включено во всеединство сущего. Соловьев, однако, существенно дополняет славянофильскую теорию познания. Понимаемая таким образом вера лежит в основании непосредственной уверенности в реальном существовании предмета познания и получает развитие в дальнейших актах «метафизического воображения», посредством которого схватывается (опять-таки предсознательно) сущность этого предмета, его идея, и творчества (также досознательного), которым эта идея воплощается затем «в изменчивом и текучем материале наших ощущений»[301].
Таким образом, согласно этой теории, процессам, происходящим в сознании познающего, предшествуют другие, более фундаментальные, обосновывающие их и происходящие в глубине человеческого духа. Всякому возможному предметному знанию человека предшествует, согласно Соловьеву, знание мистическое[302], лишь отчасти осознаваемое и выявляемое с помощью специальных процедур рефлексии единство веры, метафизического воображения и творчества. Сложность, вызывающая разногласия исследователей (Е. Н. Трубецкого и В. Ф. Эрна), состоит в том, что эта мистическая теория познания призвана описать и объяснить механизм всех познавательных процессов, происходящих в человеческом сознании (на что указывал, критикуя Эрна, Трубецкой)[303]. Мистическое знание должно быть через посредство рационального мышления осуществлено в эмпирическом опыте, и это соотношение становится основой намечаемого философом идеала цельного знания, «свободной теософии», как единства богословия, философии и науки.
Намечаемая здесь Соловьевым типология возможных отношений различных форм знания опирается, так же как описанная выше типология возможных отношений Церкви и государства, на типологию различных способов мыслить отношения Абсолютного и относительного бытия. Третирующий разум и опыт отвлеченный догматизм прежней теологии преодолевается здесь так же, как третирующие теологию и друг друга отвлеченный рационализм философии и позитивистский или материалистический эмпиризм. Все они исходят из единой предпосылки: отвлеченного представления о Боге, исключительно внешнем по отношению к миру и человеку. Тем самым они оказываются вариантами единого типа мышления, который Соловьев в ФНЦЗ и «Чтениях…» обозначает как «механический»[304]. Отсюда следует, что основная тенденция теории познания Соловьева была подмечена В. Ф. Эрном в общем верно[305]: в первую очередь она без сомнения направлена на то, чтобы обосновать правомерность религиозного познания, создать определенную философию религии и оправдать религиозную картину мира и соответствующий ей тип философского мышления перед лицом философской и научной критики. Более того, с точки зрения Соловьева, движение к идеалу цельного знания оказывается спасительным и для самих философии и науки, обреченных в противном случае на скептическое самоуничтожение.
Итак, предметное познание, как таковое, предполагает существование абсолютного Сущего, т. е. Бога. Существование этого Абсолюта, кроме того, удостоверяется непосредственным постижением его в особого рода переживании[306]. Бытие Божие получает тем самым, с одной стороны, рациональное обоснование как возможное и необходимое условие всякого познания (а также нравственной деятельности и творчества), а с другой – опытное подтверждение[307]. В свою очередь, религиозный опыт получает оправдание как легитимный источник достоверного знания. Из трех основных вопросов религиозного мировоззрения первый, таким образом, оказывается разрешен в положительном смысле. Дальнейшее рассмотрение понятия Абсолютного приводит философа к такому же разрешению и двух остальных вопросов.
Абсолютное «для того, чтобы быть тем, чем оно есть, должно быть единством себя и своего противоположного» или «другого»[308], т. е. относительного. Это «другое» должно быть в абсолютном, быть тождественно ему по содержанию и вместе с тем содержать actu частное, неистинное, т. е. быть вне абсолютного[309]. Оно должно быть, следовательно, становящимся абсолютным, сущим, тождественным абсолютному сущему по содержанию, но отличающимся от него моментом становления, потенциальности, не присущей по определению абсолютному сущему, как actus purus. Это второе абсолютное, имеющее реальную множественность как свою природу и божественное начало, как идею в своем сознании, есть, по Соловьеву, не что иное, как душа мира. В человеке она «впервые получает собственную внутреннюю действительность, находит себя, сознает себя»[310].
Этим человек, как форма существования, отличается от всего иного. Будучи всем не только в Боге, но и (потенциально) для себя, в своем сознании, он оказывается также для себя, а не только в Боге, безусловен и вечен[311]. Человеческое самосознание «я есмь» выражает не бытие, а сущего, сохраняющего свою самотождественность и сознание этой самотождественности во множестве сменяющих друг друга определений, остающегося не подверженным этой смене.
Будучи субъектом всех своих состояний, он может, тем самым, определяться в Боге или против Бога, в обоих случаях сохраняя свою свободу. Будучи уникальным единичным сущим, он, подобно Лейбницевой монаде, обладает только ему присущим особым качеством бытия, составляющим его идею, благодаря которой он занимает определенное место в структуре всеединства[312]. Эта идея выступает как основа его свободы, т. к. в нормальном положении она внутренне восполняется всеми другими, но в то же время «как нечто особенное дает ему возможность утверждать себя вне всего»[313], делая его непроницаемым для всех других. Эта свобода реализуется, соответственно, тем или иным образом в природном начале его бытия. Это последнее выступает как множественность, приводимая им к единству в том случае, если он «свободно и сознательно» возвращается к всеединству из своего ненормального, неабсолютного состояния.
Таким образом, положительно решаются оба вопроса – о личном бессмертии (вечности) человека и его свободе. Именно свободой задается динамика мирового процесса, который представляет собой не что иное, как взаимодействие «двух неразрывно связанных и друг друга обусловливающих абсолютных: абсолютного сущего (Бога) и абсолютного становящегося (человека)»[314]. Так вводится понятие Богочеловечества, описывающее не только статику мирового бытия, но и его динамику, становление, которое благодаря сознательности и свободе его главного действующего лица – человека – становится историей. Задача, стоящая перед человеком в истории и составляющая ее цель, является не нравственной или познавательной, но по преимуществу творческой: «организация самой действительности, реализация божественного начала в самом бытии природы»[315]. Она оказывается, следовательно, задачей искусства, получающего тем самым религиозный смысл. В своем высшем развитии искусство оказывается не чем иным, как свободной теургией, призванной, по мысли философа, «пересоздать существующую действительность, на место данных внешних отношений между божественным, человеческим и природным элементами установить в общем и частностях, во всем и каждом, внутренние органические отношения этих трех начал»[316]. Целью истории оказывается тогда совершенное преодоление отчуждения, возможное только как совершенная religia, «связь» трех основных элементов бытия. Само понятие «теургия» наводит на мысль о том, что в центре таким образом понятой религии должна стоять не несколько абстрактная «мистика», а совершенно конкретный, реализующийся в зримых формах культ[317].
Развивая далее понятие Абсолютного, Соловьев в различных своих произведениях (прежде всего в «Философских началах цельного знания» и «Чтениях о Богочеловечестве») осуществляет дедукцию таких существенно важных христианских догматов, как учение о Троице и о творении мира. Следует заметить, что независимо от их богословской оценки эти опыты Соловьева имеют большое значение с точки зрения реконструкции и обоснования религиозного, в частности христианского, мировоззрения.
273
Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Собр. соч.: В 12 т. Т. 2. Брюссель, 1966. С. 10.
274
Соловьев В.С. Критика… С. 10–11.
275
Там же. С. 11.
276
Там же. С. V.
277
Здесь без труда прослеживается параллель с противопоставлением положительной и отрицательной философии у Шеллинга, несомненно повлиявшего на замысел Соловьева и его план. Ср. у Шеллинга: «Логическая система становится ложной лишь тогда, когда она исключает позитивное и выдает за него себя самое» (см.: Шеллинг Г. В.Й. Система мировых эпох. Томск, 1999. С. 56).
278
Соловьев различает среди этих последних начала мистические и традиционные, покоящиеся на авторитете, причем именно первые он считает основополагающими, в то время как вторые представляются ему лишь «временным явлением» (см.: Соловьев В. С. Критика… С. 14). Это различение несомненно предваряет анализы типов религиозной жизни, отношений авторитета и религиозного опыта, предпринятые уже в XX в. Бердяевым, Франком, м. Марией (Скобцовой) (см. Кузьмина-Караваева Е. Ю. (м. Мария). Типы религиозной жизни // Кузьмина-Караваева Е. Ю. (м. Мария). Жатва духа: религиозно-философские сочинения. СПб., 2004; Франк С.Л. С нами Бог // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992).
279
Соловьев В. С. Критика… С. 39.
280
Соловьев В.С. Критика… С. 43.
281
Там же. С. 116.
282
Там же. С. 132.
283
Там же. С. 136.
284
Там же. С. 158.
285
Там же. С. 160.
286
Соловьев В.С. Критика… С. 160.
287
Там же. С. 161.
288
Там же. С. 162. См. также реферат Соловьева «О причинах упадка средневекового миросозерцания».
289
Там же. С. 160–161.
290
Соловьев В.С. Критика… С. 166.
291
Там же. С. 174.
292
Там же. С. 190.
293
Там же. С. 295.
294
Представляются в высшей степени странными упреки в адрес Соловьева в том, что он, проводя это различение, следует Шеллингу «Штутгартских лекций», а не Шеллингу «Философии откровения» и не Хайдеггеру, что якобы должно было привести к более успешному преодолению «отвлеченных начал», а так, дескать, Соловьева постигла здесь прискорбная неудача (Евлампиев И.И. История русской метафизики в XIX–XX веках: русская философия в поисках абсолюта. Ч. 1. СПб., 2000. С. 229–231). Соловьев следовал прежде всего своим собственным философским интуициям, используя для этого те средства, которые считал наиболее подходящими, и навязывать ему чужие устремления на основе непроясненного терминологического сходства – просто бестактно.
295
Там же. С. 337.
296
Там же. С. 307–308.
297
Там же. С. 308.
298
Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. Соловьева. Т. 1. М., 1995. С. 251.
299
Уже в ходе защиты диссертации это сделал второй официальный оппонент Соловьева профессор богословия Рождественский (см. Соловьев В.С. Собр. соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 848–849).
300
Соловьев В. С. Критика… С. 331.
301
Там же. С. 340–342.
302
Ср. определение мистики в «Законе исторического развития», где она отнесена к сфере творчества.
303
Трубецкой. Указ. соч. С. 249. Впрочем, Эрн этого и не отрицал. Его позицию следует понимать скорее так, что при нынешнем состоянии философии и науки указанный Соловьевым познавательный механизм реализуется не вполне адекватно. Его полноценная реализация возможна лишь «динамически», при радикальной реорганизации познавательного процесса (свободная теософия), которой должна соответствовать такая же радикальная реорганизация жизни (свободная теургия) (см.: Эрн В.Ф. Гносеология В. С. Соловьева // О Владимире Соловьеве. Томск, 1997. С. 168, 176–178; см. также: Куликова О.Б.
B. Эрн о гносеологии Вл. Соловьева // Соловьевские исследования. Вып. 4. Иваново, 2002.
C. 193–199).
304
См.: Соловьев В. С. ФНЦЗ. С. 254–255; Чтения… С. 91–93.
305
Эрн. Указ. соч. С. 168.
306
И. И. Евлампиев утверждает, что идея Абсолюта-всеединства (т. е. попросту Бога) у Соловьева – результат «абстрактного расчленения» философом своей исходной интуиции: «открытия конкретного Абсолюта – человеческой личности во всей ее бесконечной полноте». Понадобилась эта процедура Соловьеву для того, чтобы обосновать «идеал», в свете которого возможно «стремление человека к преображению себя самого, общества и всего мира» (Евлампиев. Указ. соч. С. 227). Производились эти процедуры Соловьевым, с точки зрения Евлампиева, по-видимому, бессознательно. На это можно заметить следующее: Соловьев действительно неоднократно говорит о необходимости безусловного начала для обоснования «высших интересов человека», он, однако, всегда оговаривается, что этого недостаточно для обоснования его «действительного существования», которое схватывается только верой, в намеченном выше смысле, т. е. интуитивно. Интуиция против интуиции: никаких доказательств своей точки зрения г. Евлампиев представить, разумеется, не может: ведь если Соловьев мог ошибаться относительно своей исходной интуиции, то может ли не ошибаться относительно своей г. Евлампиев? Ведь и здесь очевиден мотив: г. Евлампиеву очень хочется оторвать Соловьева от Церкви и сделать его своим союзником в борьбе за «новый гностицизм».
307
Этим объясняется скептическое отношение Соловьева к «доказательствам бытия Божия». Следуя здесь, по всей видимости, своему учителю П. Д. Юркевичу, он считал их логически недостаточными, требующими дополнительной опоры в непосредственном опыте (Соловьев В. С. Чтения, с. 35). Соловьев явно предпочитал опираться в этом вопросе не на космологию, а на анализ «высших интересов человека» (Там же. С. 32–33), в чем последовали за ним Флоренский, братья С.Н. и Е. Н. Трубецкие и др.
308
Соловьев В. С. Критика… С. 310, 315.
309
Там же. С. 317.
310
Там же. С. 319.
311
Там же. С. 320. Что не означает (вопреки Евлампиеву (Указ. соч. С. 228) его равноправия с Богом, поскольку он именно Богом положен, как таковой, положен в становление, и без этого полагания интуиция вечности и безусловности человека может быть оценена, по Соловьеву, лишь как иллюзия сознания.
312
Тем самым эта структура приобретает черты монадологии, напоминающие Лейбница. Подробнее монадологическая проблематика обсуждается Соловьевым в «Чтениях о Богочеловечестве». О соотношении персоналистических мотивов в творчестве Соловьева и метафизики всеединства см.: Половинкин С.М. В. С. Соловьев и русское неолейбницеанство // Вопросы философии. 2002. № 2. С. 90–96.
313
Соловьев В. С. Критика… С. 322.
314
Там же. С. 323.
315
Там же. С. 352.
316
Там же.
317
Тем самым, философия религии Соловьева оказывается таящей весьма неожиданные возможности. Из нее равно проистекают как «Философия культа» о. Павла Флоренского, так и учение Н. О. Лосского о «мистической интуиции». Следует внимательно отнестись к словам философа о том, что в центре его Эстетики должно было стоять учение о церковных Таинствах.