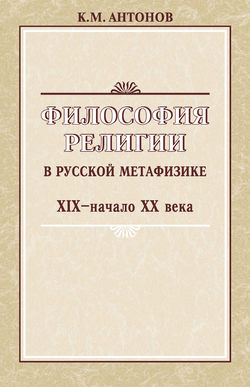Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Введение
Философия религии и религиозная философия в русской мысли
ОглавлениеФилософская актуальность данного исследования определяется вкладом, внесенным в изучение религии русской метафизической мыслью. На протяжении XIX–XX вв. эта мысль представила значительное многообразие направлений и концепций, в рамках которых весьма тщательному анализу были подвергнуты как основные религиозные понятия и идеи (вера, откровение, догмат, культ, теократия и т. д.), так и основные проблемы философии религии (определение религии, бытие Божие и его доказательства, проблема веры и разума, религии, философии и науки, гносеологическое значение религиозного опыта, история религии, ее ход и общие закономерности, религиозная традиция как поток жизни и как совокупность определенных структур, место религии в обществе и истории человечества, соотношение религиозного и атеистического сознания и др.).
Все сказанное в свою очередь задает и ряд существенных особенностей развиваемого ниже подхода к теме, определивших, в частности, круг релевантных источников и применявшиеся в работе способы их анализа. Остановлюсь кратко на основных из этих особенностей.
Во-первых, мне представляется, что одним из существенных препятствий для должной оценки указанного вклада была до сих пор весьма распространенная характеристика русской философии как «религиозной».
Как ни странно, рассматривая русскую философию как «религиозную», исследователи до сих пор почти не уделяли систематического внимания содержащимся в ней элементам философии религии.
Причина этого, на мой взгляд, заключается в том, что термин «русская религиозная философия» в настоящее время постепенно превращается в штамп. Некоторое предметное значение он может получить, как было показано выше, только в контексте рассмотрения целостной системы рефлексивных структур, осуществляющих легитимацию религиозной традиции. К сожалению, в настоящее время многие историки русской мысли, используя термин «религиозная философия», изменяют и превращают в мнимые достоинства ее мнимые недостатки: недостаток рациональности, строгости, т. е., в конечном счете, философичности. Считается, что религиозный философ может позволить себе то, чего не может обычный, что он – «больше, чем философ»[25]. Весьма распространены, к примеру, указания на присущие религиозной философии пафос и особую метафоричность ее языка. Для одних это минус, для других плюс, но и те, и другие избавляют себя этим указанием от работы исследователя: выяснения того, обоснован или не обоснован этот пафос философским анализом и присутствует ли в этих метафорах значимое философское содержание?
Здесь, однако, возникает справедливый вопрос: остается ли такая мысль философской мыслью? Мне представляется, что русская мысль обладает достаточным философским содержанием для того, чтобы рассматривать ее, не делая скидок на ее пресловутую «религиозность».
С точки зрения темы моего исследования это расхожее понимание имеет еще и тот недостаток, что предрасполагает исследователя рассматривать русскую мысль скорее как выражение определенных религиозных идей и интуиций (православных, гностических, атеистических, масонских и т. п.), чем как их рефлексирующее исследование. В первом случае почти неизбежно возникает потребность дать общую религиозную или специальную богословскую оценку соответствующих построений, что влечет за собой известный и весьма распространенный в отношении русской философии культурный нигилизм. При этом вопрос о соотношении философских учений и догматики ставится как само собой разумеющийся. Однако таким образом упускается из виду предварительный вопрос о самой возможности такого сопоставления двух интеллектуальных дисциплин с различными источниками, критериями рациональности, истинности и обоснованности. Лишь при втором подходе мерилом оценки становится прежде всего вклад той или иной концепции в общее становление философской мысли, что позволяет сосредоточиться главным образом на ее достижениях, а также продумать более основательно вопрос о соотношении философии и теологии, и в частности проблему богословской ответственности философа.
Потребность в формировании более ясного представления об указанном выше вкладе ощущается как в рамках истории русской философии, так и в рамках философии религии. В самом деле, определяя русскую философию как «религиозную», мы волей или неволей приходим к тому, чтобы задаться вопросом о том, как же она, собственно, понимает религию. И действительно, легко заметить, что те или иные аспекты проблематики философии религии так или иначе затрагиваются в целом ряде исследований: как тех, что посвящены тем или иным конкретным мыслителям, так и обобщающих[26]. Тем не менее, работы, в которой эти аспекты сводились бы воедино, до сих пор не появлялось. В то же время столь видный исследователь проблем философии религии, как уже упоминавшийся Ю. А. Кимелев, в свою очередь указывал на «потребность в… обобщающих работах, посвященных истории западной философии религии, а также русской религиозной философии». Сам автор далее поясняет, что речь идет для него о наличии в русской мысли «философии религии европейского типа»[27]. Именно она (разумеется, с учетом присущей русской мысли оригинальности) и станет основным предметом рассмотрения в данной работе[28].
Во-вторых, не отрицая глубокой оригинальности русской философии, я полагаю все же, что это оригинальность вида в рамках рода, каковым выступает в данном случае европейская философская традиция. Оригинальность эта определяется религиозным (отличие православия от западных вариантов христианства) и культурным (сложными наслоениями византийских, западных и восточных элементов на славянский субстрат) своеобразием России, как некоторой данностью – исходной точкой – субстратом и одновременно предметом философского размышления. Насколько это размышление было адекватно своему предмету – другой, требующий отдельного рассмотрения вопрос. Неслучайно, тем не менее, что русская философия в общем смысле, как «философия в России» (так же как и русская литература, живопись, музыка и т. д.), возникает только «после Петра», тогда, когда русская мысль, подобно всей «высокой» русской культуре принимает европейские нормы и ценности в качестве образцовых. Однако ее отличие от других сфер русской культуры состоит в том, что подлинное ее начало как именно «русской философии» следует отсчитывать с того момента, с которого она сделала это событие предметом рефлексии. Однако и здесь она не вышла, по существу, за пределы философии европейского типа, прежде всего в силу того что в древнерусской культуре самостоятельной философской традиции (я говорю об эксплицитном философствовании, а не о так или иначе выраженных мировоззренческих интуициях) не возникло, и позднейшие русские философы (данный факт отнюдь не умаляет их оригинальности) в поисках образцов вынуждены были, так или иначе, обращаться ко все той же европейской традиции. Это касается и философии религии.
В то же время следует отметить, что в этом отношении русской мысли свойственна некоторая странность. С одной стороны, в ней очевидным образом присутствует тот комплекс проблем и тем, который в европейской мысли традиционно относился к сфере философии религии. При этом русские философы вполне сознают внутреннее единство этого комплекса. Но, с другой стороны, само словосочетание «философия религии» употребляется ими сравнительно редко, случайным образом и в качестве рубрики для обозначения особого раздела философской системы или тем более дисциплины практически отсутствует[29]. Тем самым смысл понятия «философия религии» в применении к русской философии не совпадает ни с широким, ни с узким смыслом этого понятия у Кимелева. Ясно, что речь идет о чем-то более специализированном, чем просто вообще всякое отношение русских философов к религии, и в то же время о чем-то более широком, чем эксплицированное теоретизирование под соответствующей рубрикой. И тем не менее именно это несколько неопределенное, но вполне ощутимое смысловое единство будет в дальнейшем иметься в виду под словами «философия религии», и именно оно станет предметом дальнейшего рассмотрения[30].
В-третьих, несмотря на сказанное выше, следует отдавать себе отчет в том, что как в рамках немецкой, так и в рамках англо-американской традиции философии религии постепенно выработались, в соответствии с характерной для каждой из них направленностью познавательного интереса, некоторые стандартные наборы проблем и способов их рассмотрения, лишь отчасти пересекающиеся с теми, которые были характерны в свое время для русской мысли. Они, следовательно, не могут быть механически перенесены на русский материал. То же самое, и с еще большим основанием, может быть сказано и о современной российской мысли, так или иначе восходящей к советской традиции «научного атеизма» с ее марксистскими корнями. Это значит, что рассмотрение только тех теорий русских философов, которые соответствуют нашим современным представлениям о предметном поле философии религии, не может быть вполне адекватным и, во всяком случае, окажется слишком отрывочным. Необходимо, стало быть, обращение к русской философской традиции в свете присущей именно ей направленности познавательного интереса. Это влечет за собой определенную трудность, выявление которой само по себе составляет одну из важных задач работы: с одной стороны, рассмотрение философии религии того или иного мыслителя почти всегда требует более или менее целостного воспроизведения, под определенным углом зрения, всей системы его идей, с другой – приходится совмещать рассмотрение уникальности каждого отдельного мыслителя с выявлением общих закономерностей становления дисциплины в целом.
В-четвертых, заявленная попытка представить русскую метафизику как программу исследования религии, естественно, требует уделять значительное внимание становлению методологических аспектов этой программы и сопоставлению идей русских мыслителей с соответствующими концепциями западных философов. В этом не следует видеть ни апологетики русской философии («Россия – родина диффузионизма, феноменологии, экзистенциализма и т. д.»), ни стремления к ее ниспровержению как якобы вторичной, неоригинальной и т. п. Помимо того что такие сопоставления имеют собственный историко-философский интерес, их функция в данной работе заключается также в том, чтобы, изъяв данные моменты из привычного контекста «религиозной философии», яснее подчеркнуть указанную исследовательскую составляющую русской мысли и, таким образом, хотя бы отчасти начать работу по преодолению почти не замечаемой нами, но от того только более глубокой герменевтической пропасти нас от нее отделяющей.
В самом деле, нам представляется, что русские философы занимались примерно теми же проблемами, которые интересуют нас сейчас, и решали примерно те же задачи, которые стоят сейчас перед нами. Нам кажется, что они говорили и писали на том же языке, на котором привыкли говорить мы. Вероятно, они сами отчасти виноваты в том, что это представление у нас возникло[31]. Однако я считаю его иллюзией. Те проблемы, которыми занимались русские философы XIX–XX вв., мы сейчас практически не замечаем, наоборот, для них практически не существовало проблем, над которыми ломаем головы мы. И это важный источник некоторого раздражения и предубеждения, существующего против русской философии: она не отвечает на наши вопросы, а думает о своем и по-своему. Мы ожидаем, что она, как Г.-К. Честертон или К.-С. Льюис, даст нам готовые аргументы, остроумные и окончательные решения наших проблем, а она, вместо этого, создает нам новые проблемы. Положение осложняется еще и тем, что мы, как правило, также не отдаем себе отчета в том, насколько наше мышление о наших проблемах определено предшествовавшей русской мыслью[32].
В-пятых, вследствие тех же причин нижеследующее рассмотрение будет исходить из той предпосылки, что центральным и даже структурообразующим направлением русской мысли вообще и русской философии как одного из ее потоков в частности является религиозно-метафизическое направление, зарождающееся в творчестве Г. С. Сковороды, оформляющееся начиная с П. Я. Чаадаева и славянофилов, продолжающееся в творчестве Вл. Соловьева и примыкающей к нему непосредственно группы философов (Л. М. Лопатин, братья С.Н. и Е. Н. Трубецкие), завершающееся в XX в. в творчестве наиболее известных русских мыслителей.
Эту предпосылку мне не хотелось бы никак доказывать или обосновывать. Разумеется, возможны другие подходы к изучению русской философской традиции. В значительной мере это просто дело философского вкуса. Замечу лишь, что только на такой основе удавалось до сих пор создавать сущностным образом целостные и полные картины становления этой традиции. Примером и образцом такого подхода может служить «История русской философии» прот. В. Зеньковского.
В то же время следует заметить, что единство этого направления не суть исключительно философское единство. Более того, в чисто философском отношении мы найдем тут множество не просто различных, но исключающих друг друга позиций, идей и взглядов. Отсутствует в указанном направлении и единство общественно-политических установок.
Даже хронологическая преемственность между отдельными поколениями здесь порой нарушалась. Мы увидим, что она нарушалась и при переходе от «эпохи Чаадаева и славянофилов» к «эпохе Соловьева», и при переходе от этой последней к Серебряному веку. И тем не менее единство направления здесь может быть обнаружено.
Мне представляется, что это единство задается каждый раз восстанавливаемой в результате интенсивных духовных поисков общностью творческой позиции, т. е. совокупности жизненных принципов, определяющих не столько содержание конкретных идей, сколько образ жизни, общее понимание философии, отношение к творчеству вообще и саму структуру творческой деятельности. Эта позиция, как мы только что видели, определяется фактом переживания религиозного обращения в секуляризованном обществе. В самом общем виде ее охарактеризовал С. Н. Булгаков, когда заговорил в своей веховской статье о становлении церковной интеллигенции, которая «подлинное христианство соединяла бы с просвещенным и ясным пониманием культурных и исторических задач»[33].
Полагая это направление основным, я отнюдь не считаю его единственным или даже единственно ценным. Напротив, на всем протяжении своего существования это направление взаимодействовало с рядом других, во многих отношениях не менее значительных. Здесь следует отметить прежде всего такие близкие по своим интенциям к указанному направлению как неогегельянство (Б. Н. Чичерин, П. А. Бакунин) и спиритуализм («неолейбницеанство»: Л. М. Лопатин, А. А. Козлов, С. А. Аскольдов и др.). Далее, это направления, с которыми оно находилось в отношениях своеобразной диалектической взаимозависимости: русский атеизм, в лице А. И. Герцена, М. А. Бакунина и их последователей и новое религиозное сознание (Д. С. Мережковский, В. В. Розанов и др.). Несколько особняком, по причине, указанной в предыдущем разделе, стоит в данной типологии академическая философия (прот. Ф. Голубинский, П. Д. Юркевич, В. Д. Кудрявцев, А. И. Введенский, С. С. Глаголев, прот. Н. Боголюбов, свщ. Т. Буткевич и др.), представители которой сыграли тем не менее важнейшую роль в общем развитии нашей проблематики (достаточно указать на влияние Юркевича на Вл. Соловьева или Несмелова на Бердяева). Им также необходимо уделить определенное внимание, хотя, возможно, меньшее, чем они заслуживают.
Эти направления могут быть названы «метафизическими» в том самом общем смысле, что все они считают осмысленным и возможным делать некоторые утверждения о структуре и природе реальности, как таковой, и целью философской деятельности считают создание той или иной системы общих утверждений такого рода, «умозрительного учения о первоначальных основах всякого бытия или о сущности мира»[34]. В поисках альтернативы радикальному эмпиризму и субъективизму значительной части философии XIX в. они апеллируют, прямо или косвенно, к особого рода метафизическому опыту, выявляющему основания и предпосылки человеческого бытия, познания, языка, истории, культуры, религии[35]. Стремясь «создать… цельное, всеобъемлющее и всестороннее миросозерцание», они неизбежно приходят к постановке вопроса «об истинном отношении между философией и религией»[36] и к вытекающей из него проблематике философии и религии.
Именно они, в отличие от таких «антиметафизических» направлений, как позитивизм или неокантианство, и станут предметом рассмотрения в данном исследовании.
25
См.: Шохин В.К. Образ философа и философии в России и Индии: параллели и контрасты // Историко-философский ежегодник, 2003. М., 2004. С. 377–382. Автор, однако, совершенно произвольно ограничивает сферу значимой русской философии исключительно «профессиональной» академической и университетской средой, априорно отрицая наличие философского содержания у любых позиций, отклоняющихся от канона «классического философского рационализма». Во многом аналогичное, хотя и более конструктивное противопоставление европейской философии и русской «теософии» (см.: Ахутин А.В. София и черт. Кант перед лицом русской религиозной метафизики // Ахутин А.В. Поворотные времена. СПб., 2005. С. 449–480). Моя цель, в данном случае, прямо противоположна: посмотреть на русскую мысль именно как на философию, показать наличие в ней философского содержания, раскрыв в сфере философии религии те философские (а не религиозно-психологические) основания, по которым указаный канон был подвергнут в русской философии радикальному пересмотру.
26
Перечислю основные обобщающие работы, имеющие значение для данной темы. Это классические: Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Киев, 1991; Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1990; Лосский Н. О. История русской философии. М., 2007; Чижевский Д. Гегель в России. СПб., 2007; Левицкий С. А. Очерки по истории русской философии. М., 1996 – и вышедшие в последнее время: Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994; Хоружий С. С. Очерки из русской духовной традиции. М., 2007; Евлампиев ИМ. История русской метафизики в XIX–XX веках: русская философия в поисках Абсолюта. Ч. 1–2. СПб., 2000; Гайденко П. П. Вл. Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001; Нижников С. А. Метафизика веры в русской философии. М., 2001; Тарасов Б. Н. «Мыслящий тростник». Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей. М., 2004; Ермишин О. Т. Русская историко-философская мысль (конец XIX – первая треть XX). М., 2004; Сербиненко В. В. Русская философия: Курс лекций. М., 2005; Шапошников Л. Е. Консерватизм, модернизм и новаторство в русской православной мысли XIX–XXI веков. СПб., 2006; Мотрошилова Н. В. Мыслители России и философия Запада. М., 2006; Бычков С. С. Русская теургическая эстетика. М., 2007; Марченко О. В. Григорий Сковорода и русская философская мысль XIX–XX веков: Исследования и материалы. М., 2007. Из работ зарубежных авторов: Coplestone F. C. Russian Religious Philosophy. Notre Dame, Indiana. 1988; Dahm H. Grundzüge russischen Denkens: Personlichkeiten u. Zeugnisse d. 19. u. 20. Jh. München. 1979; Goerdt W. Russische Philosophie. Grundlagen. Freiburg. 1995.
27
Кимелев. Философия религии… С. 4, 6 (примеч.).
28
Чем и определяется, главным образом, ее новизна, поскольку прежде обобщающих работ такого рода не появлялось, да и исследования, посвященные философии религии отдельных русских философов, были весьма редки.
29
Следует все же отметить, что как философская дисциплина философия религии довольно активно развивалась в духовных академиях. Так, курс «Лекции по философии религии» в 1830-е гг. читал в Киевской духовной академии прот. Иоанн Скворцов, сюда же относятся циклы работ В. Д. Кудрявцева, А. И. Введенского, С. С. Глаголева, «Философия религии» прот. Н. Боголюбова (1915) и ряд других. Наряду с ними следует отметить «Чтения о Богочеловечестве» Вл. Соловьева, которые в первоначальном варианте назывались «Чтения по философии религии», курс лекций по философии религии, готовившийся кн. С. Н. Трубецким, из более поздних: «Непостижимое. Опыт онтологического введения в философию религии» С. Л. Франка.
30
Не претендуя на исчерпанность, можно предположить, что эта неопределенность связана, по крайней мере отчасти, с тем, что «период систем», как справедливо заметил о. В. Зеньковский, начался в русской философии только с Вл. Соловьева и В. Д. Кудрявцева, т. е. в последней трети XIX в. С другой стороны, следует отметить и то обстоятельство, что само словосочетание «философия религии» было тесно связано с содержанием соответствующего произведения Гегеля, а потому появление новой работы в рамках той же дисциплины неизбежно вызвало бы ассоциации с указанным трудом.
31
Для них самих отчасти характерно это выпячивание публицистической, «пророческой», лирической, политической и других подобных составляющих русской мысли в качестве ее характерных черт. Думается, однако, что скорее в этом надо усматривать некоторую коммуникативную стратегию (не самую удачную), чем выражение подлинного самопонимания.
32
Это касается таких современных дискуссий, как бои эволюционистов и креационистов, даже не подозревающих о том, что их столкновения – только иллюстрация к размышлениям русских философов о проблеме веры и разума и особенностях эпохи Просвещения; как полемика вокруг богословского персонализма, участники которой, насколько я понимаю, очень приблизительно представляют себе историю понятия «личность» в русской мысли; как рассуждения о христианской семье и Таинстве Брака, зачастую почти буквально воспроизводящие (не ведая о том, разумеется) фигуры антирозановской полемики начала XX в. Известная доля вины здесь лежит на парижской школе православного богословия (к которой я, безусловно, отношусь с огромным уважением): в силу своей полемичности по отношению к другим направлениям русской мысли она зачастую доносит до нас ее предания без ясного указания на его истоки.
33
Булгаков СИ. Героизм и подвижничество // Вехи. Из глубины / Сост. А. А. Яковлев. М., 1991. С. 70.
34
Соловьев B. C. Метафизика // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XIX (37). СПб., 1896. С. 164.
35
См.: Сербиненко. Русская философия… С. 236.
36
Соловьев B. C. Метафизика. С. 166.