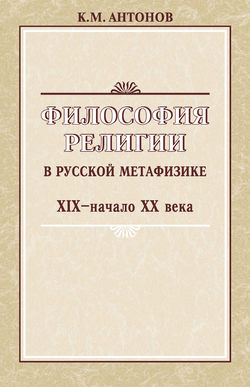Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Истоки и предтечи: становление философии религии и ее развитие в русской философии середины XIX в.
Философия религии в русской мысли середины XIX века
П. Д. Юркевич
ОглавлениеПамфил Данилович Юркевич (1827–1874) занимает одно из ключевых мест в русской философии середины XIX в. В своем творчестве он охватил широкий круг проблем, относившихся к теоретической философии, антропологии, философии религии, нравственному богословию и педагогике[158]. Начав свою творческую деятельность в Киевской духовной академии, он в 1861 г. принял приглашение занять восстановленную кафедру философии Московского университета. В эти же годы развернулась принесшая ему известность полемика с Н. Г. Чернышевским и М. А. Антоновичем. Критика Юркевичем материализма Чернышевского вызвала резкую и совершенно неадекватную реакцию в органах печати «революционно-демократического» направления. Непосредственно проблемы философии религии в этих работах мыслителя почти не затрагивались. Однако предложенное им опровержение материализма стало своего рода моделью, в соответствии с которой строились аналогичные рассуждения Ю. Ф. Самарина, В. С. Соловьева, Л. М. Лопатина, С. Н. Трубецкого, с одной стороны, и философов академического направления – с другой. Здесь оно стало необходимым элементом обоснования метафизической философии религии «нового поколения». И дело не только в предложенном Юркевичем наборе аргументов, но и в самом подходе, в самой форме этого опровержения, во многом предвосхищавшего развитую Вл. Соловьевым «критику отвлеченных начал»[159]. В этом отношении его работы о материализме должны рассматриваться в одном ряду с речью «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта» и ранней статьей «Идея». Везде Юркевич подчеркивает закономерность появления и относительную плодотворность критикуемых подходов как «исторических моментов в развитии свободной мысли»[160]. При этом материализм опровергается в значительной мере на основе субъективистских аргументов, выдвинутых Юмом и Кантом. Кантианская же позиция снимается затем, исходя из точки зрения христианского платонизма, обновление и обоснование которого и составляет общую цель всего движения мысли[161].
Согласно Юркевичу, в основе современного материализма лежит прежде всего стремление разрешить психофизическую проблему. Он стимулирующе воздействует на научные изыскания в области физиологии и психологии и отнюдь «не может служить признаком упадка мышления и интеллектуального развития нашего общества»[162]. Тем не менее, принципиально, как философская теория, материализм несостоятелен и противоречив. Аргументация Юркевича подробно разбиралась уже Вл. Соловьевым и Г. Шпетом[163], кроме того, она не имеет непосредственного отношения к моей теме, а потому ограничусь лишь кратким перечислением основных пунктов.
Прежде всего, никакие научные факты не могут оправдать никаких метафизических утверждений. Даже если бы физиологу удалось доказать «с математической достоверностью» факт причинной зависимости каких-либо психологических явлений от каких-либо физиологических, «то и в этом крайнем случае мы еще не имели бы непосредственного права построивать из факта науки материалистическую метафизику, для которой вещество есть первоначальная основа всех явлений мира», т. к. наше мышление «должно повиноваться как опытам, так и своей внутренней закономерности»[164]. Вместе с тем, Юркевич указывал на принципиальную невыводимость явлений душевной жизни из фактов физиологического и физического порядка, а также на несводимость друг к другу и в то же время взаимную дополнительность языка физиологии и психологии. Рассматривая факты сознания как непосредственные следствия фактов физиологических (например, определенных нервных процессов) или даже сводя первые ко вторым, материалисты упускают из виду их качественную разнородность как предметов соответственно внутреннего и внешнего опыта. Призываемая здесь на помощь идея превращения количественных различий в качественные представляет собой не что иное, как род «новой мифологии» «в области естествознания»[165]. Во всех случаях материализм упускает из виду того деятеля, без которого эти превращения оказываются необъяснимыми. Пытаясь вывести сознание из нервных процессов, материалисты забывают о том, что сами эти процессы существуют только как явления, данные некоторому сознанию, «для их объяснения нужно брать в расчет ощущающий, представляющий и познающий дух, как одно из первоначальных условий, почему вещи являются такими, а не другими»[166]. Таким образом, учение Канта о человеческом опыте оказывается убийственным для материализма. Однако само по себе оно также является недостаточным: «Истина кантова учения об опыте возможна только вследствие истины платонова учения о разуме»[167]. Это последнее предполагает, по Юркевичу, признание, наряду с миром идей, «образцов или вечной истины», также царства «существ разумных, призванных познавать эту истину и питаться ею» и, наконец, феноменального «существования всего телесного» – трех нередуцируемых друг к другу (и в этом он видит коренное отличие традиционного платонизма от немецкого идеализма) метафизических царств. Характерно при этом для Юркевича то, что центр тяжести его интерпретации лежит на среднем царстве «способных к действию и страданию живых существ», «реального», как он выражается, до конца нерационализируемого бытия, представляющего собой «тайну Божественного творчества»[168].
Таким образом, в центре учения Юркевича лежит проблема человека, его природы, его метафизического статуса. Материалисты, Кант, Платон интересуют философа прежде всего с точки зрения их антропологических представлений. И неслучайно антропология лежит в основе его философии религии.
Обратимся поэтому к рассмотрению его учения о сердце[169]. В его истолковании библейское учение о сердце сближается с антропологией платонизма. Вместе они противостоят современной (для того времени) психологии, для которой на первое место в понимании человека выдвигается его рациональная сторона – сознание. Обосновывая актуальность библейского учения о сердце, Юркевич указывает на «первоначальную и простую» основу человеческой личности, источник непредсказуемости и спонтанности в душевной жизни человека. Разум – свет сознания – вторичен по отношению к этой основе: он возникает, как и другие определенные формы душевной жизни, из нее, им только озаряется «не им положенная, но Богом созданная жизнь человеческого духа», возникающая «во мраке и темноте, т. е. в глубинах, недоступных для нашего ограниченного взора»[170], для непосредственной интроспекции. Более того, сознание вторично и в том смысле, что «наши мысли, слова и дела суть первоначально не образы внешних вещей, а образы и выражения общего чувства души, порождения нашего сердечного настроения»[171]. В то же время любое знание становится действенной силой человеческой жизни только тогда, когда оно «падает нам на сердце», становится «нашим внутренним сокровищем»[172].
Уже составители проспекта первого (несостоявшегося) издания сочинений Юркевича отмечали близость его концепции психологии конца XIX – начала XX в. Бергсона и Джемса[173]. В том же русле развивалась и русская философская психология того времени: идеи Л. М. Лопатина, В. В. Зеньковского, В. В. Розанова, о. П. Флоренского, С. Л. Франка. Неизбежно вспоминается и концепция бессознательного З. Фрейда. Различие с последним очевидно именно с точки зрения философии религии: даже преодолевая рационализм, Фрейд полагает источником бессознательного биологические аспекты человеческой природы, религия для него – порожденная желанием невротическая иллюзия[174]. Для Юркевича «задушевная» сторона человеческой жизни прежде всего метафизична, именно здесь человек теснее всего связан с Богом, и потому именно здесь, а не в разуме, лежит начало его религиозной жизни. Отсюда ясно, почему сердце рассматривается мыслителем как главный орган религиозного и нравственного сознания.
Перейдем теперь к основному сочинению Юркевича, посвященному нашей проблематике: развернутой рецензии «По поводу статей богословского содержания, помещенных в “Философском лексиконе”» С. С. Гогоцкого. В этой рецензии теории, объясняющие происхождение религии из чувства страха, зависимости или стремления к счастью, рассматриваются Юркевичем как «односторонние». Эти «эмпирические мотивы» объясняют, с его точки зрения, скорее возникновение «болезней религиозного сознания», но недостаточны для объяснения его «положительного содержания» даже в сфере «естественной религии», т. е. язычества. В сердечной потребности живого союза с Богом «лежит естественное предрасположение к молитве и вере». Это предрасположение, проявляющееся в сердце как «подлинное чувство бесконечности», преобразуется сознанием в идею Бога, объективность которой удостоверяется в религиозном опыте[175].
Юркевич выступает здесь как тонкий аналитик эмоциональных аспектов религиозного сознания, подчеркивающий его сложность, антиномичность и нередуцируемость к повседневности. В то же время он не всегда достаточно четко различает религиозное и нравственное сознание: «Для сознания дикаря Бог по преимуществу представляется в образе существа страшного; но это, во-первых, потому, что чувство страха невыделимо из ощущений величия, безмерного достоинства и из чувства благоговения; во-вторых, потому, что он, всего скорее, верует в Бога, как защитника правды и карателя неправды. “Метателя грома и молний” дикарь боится не так и не потому, как и почему он боится тигра, льва или своего мстительного врага»[176].
Над естественной религиозностью надстраивается религия откровения. Как представитель академической школы, Юркевич понимает откровение вполне традиционно: оно «сообщает человеку истины, недоступные для его разума». Однако и оно имеет определенные основания в самой человеческой природе: «Душа носит в себе зачатки и предрасположения к этому необыкновенному научению»[177]. Характерно, что эти зачатки относятся опять-таки не к сфере знания, а к сфере воли, и здесь Юркевич справедливо ссылается на блж. Августина. В основе религии действительно лежит желание, мечта, однако удовлетворяемая ею потребность есть не вторичная, а, напротив, наиболее фундаментальная. Противники религии «идут против настоятельнейших и существеннейших побуждений своего сердца». Здесь Юркевич отождествляет религию с мечтой «о лучшем мире и лучшем порядке вещей», что позволяет, потенциально, включить в круг рассмотрения философии религии радикальные утопические идеи и движения. Тем самым, религия оказывается слишком универсальной и значительной формой человеческой жизни, чтобы оказаться полностью ошибочной, иллюзорной. Вместе с тем, подобный подход оказывается открытым и для исследования иллюзий и «болезней» как религиозного (в узком смысле), так и атеистического сознания. В этом отношении Юркевич также выступает как предшественник Вл. Соловьева и через него – «веховской» традиции русской мысли.
Учению о происхождении и сущности религии соответствует и учение о Боге. Подобно Паскалю (в русской мысли ему непосредственно предшествовал И. В. Киреевский), Юркевич различает и даже противопоставляет бога философов, «субстанцию мира явлений», и Бога Авраама, «создавшего мир и промышляющего о нем»[178]. Бог философов «не имеет непосредственной связи с потребностями религиозного сознания человечества»[179]: «Какое бы значение ни имела эта мысль о Боге как общей субстанции вещей, мы все же должны сознаться, что не к этому Богу обращается человек в своем религиозном чувстве… Сердце человеческое возносится в вере и молитве к такому существу, которое может внимать его воплям и облегчать его страдания»[180]. Теоретическое знание о Боге с этой точки зрения оказывается невозможным. В споре Канта и Гегеля о доказательствах бытия Божия Юркевич оказывается на стороне Канта, признававшего их невозможность именно потому, что он сохранил общечеловеческое религиозное понятие о Боге как о Творце и Промыслителе мира[181]. Гегелю же и его последователям в рамках теистической философии (например, Гогоцкому) преодоление аргументов Канта дается, по мысли Юркевича, только за счет смешения двух разнородных понятий: философского и религиозного.
Это не значит, однако (уже вопреки Канту), что доказательства бытия Божия не имеют никакой ценности, а вера в Бога слепа и безотчетна. Скептицизм Канта относительно возможности богопознания с тем же успехом может быть распространен на всю сферу человеческого знания, его субъективизм «разрушается своей собственной внутренней диалектикой»[182]. Вера оказывается необходимым элементом и источником знания, она «основывается на истолковании явлений внешнего и внутреннего опыта», именно она дает основное содержание жизни человеческого духа как существа чувствующего и стремящегося. В доказательствах бытия Божия выражен момент ее тесной связи со знанием, с интеллектуальной сферой человеческой жизни. Отсюда вытекает для Юркевича и высокая религиозная ценность этих доказательств (за исключением онтологического), и признание того факта, что даже само их несовершенство «есть явление, имеющее глубокий нравственный смысл: религиозно мы можем относиться только к Богу непостижимому»[183]. Это несовершенство оказывается, тем самым, их «естественным качеством»[184].
Учение о сердце служит также основанием для понимания аскетизма, в основе которого лежит, согласно Юркевичу, свободный акт воли, начинающий новый «ряд действий из себя и от себя»[185]. Элементы усилия воли, самопринуждения и самообладания составляют необходимый аскетический момент нравственного развития каждого человека. Они, однако, могут приобретать разный смысл в зависимости от того или иного понимания основных религиозных идей о Боге, мире, человеке и их отношениях, а также, и в этом своеобразие аскетизма по сравнению с нравственностью вообще, «в связи с понятием аскетов о святости жизни, поскольку они отличали жизнь святую от общенравственной жизни, основывающейся на правде и любви»[186]. В связи с рассмотрением аскетизма Юркевич выстраивает своеобразную лестницу религиозно-нравственного сознания человечества, предвосхищающую аналогичную лестницу, выстроенную Соловьевым в «Чтениях о Богочеловечестве». В отличие от отрицающего мир и собственную личность индийского аскета и утверждающего свою личность, но безразличного к миру аскета греческого, христианский аскет признает «своею главною задачей» труд во имя любви к ближним и миру в целом для утверждения «царства духа, царства Божия на земле»[187].
Мысль Юркевича оказывается, таким образом, существенным моментом в становлении философии религии в русской метафизике середины XIX в. Вырастая из иных, чем идеи славянофилов, истоков, она в ряде моментов (учение о сердце, о человеческой личности, о вере, критика материализма) приходит к близким результатам. Тем самым в фундамент развития этой дисциплины оказывается заложено сложное переплетение идей П. Я. Чаадаева, славянофилов, П. Д. Юркевича. Это развитие уже в ближайшем будущем принесло свои первые результаты: в предсмертном философском творчестве Ю. Ф. Самарина и далее в философии Вл. Соловьева.
158
Насколько мне известно, проблемы философии религии Юркевича специально рассматривались, кроме обзорных работ Соловьева и Шпета, только А. В. Аристовой (Аристова А.В. Проблема философии религии в творчестве П. Д. Юркевича: Дисс. на соиск. ученой степени канд. филос. наук. Киев, 1993).
159
О влиянии идей Юркевича на концепцию Соловьева см.: Сербиненко В.В. Русская философия… С. 129, 239–247.
160
Шпет Г.Г. Философское наследие П. Д. Юркевича // Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. С. 578–630, здесь с. 583.
161
О становлении позиции Юркевича по отношению к Канту более подробно см.: Пич Р. Критическое рассмотрение П. Д. Юркевичем философии Канта // Вопросы философии. М., 2002. № 7. С. 107–115.
162
Юркевич П. Д. Материализм и задачи философии // Юркевич П. Д. Философские произведения. С. 193–244, здесь с. 198.
163
См. также: Запорожец М.О. Критический анализ П. Юркевичем философии материализма: Дисс. на соиск. ученой степени канд. филос. наук. Киев, 1994.
164
Юркевич П.Д. Материализм… С. 201–202.
165
Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Юркевич П. Д. Философские произведения. С. 104–192, здесь с. 125.
166
Соловьев В.С. О философских трудах П. Д. Юркевича // Юркевич П. Д. Философские произведения. С. 552–578, здесь с. 570.
167
Юркевич П. Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта // Юркевич П. Д. Философские произведения. С. 466–528, здесь с. 520.
168
Там же. С. 488.
169
Именно этому учению уделяется основное внимание исследователями последнего времени. См.: Елистратов С. Г. «Философия сердца» П. Д. Юркевича: Дисс. на соиск. ученой степени канд. филос. наук. Киев, 1996; Бабина В.Н. «Метафизика сердца» в русской философии второй половины XIX века: П. Д. Юркевич: Дисс. на соиск. ученой степени канд. филос. наук. М., 2005.
170
Юркевич. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия // Юркевич П. Д. Философские произведения. С. 69–103, здесь с. 87.
171
Там же. С. 81.
172
Там же. С. 85.
173
Абрамов А.И. Примечания // Юркевич П. Д. Философские произведения. С. 639–664, здесь с. 642.
174
Более подробное, хотя и несколько упрощенное, сопоставление взглядов обоих мыслителей см. в: Вильчинская С. В. П. Юркевич и З. Фрейд о бессознательном (опыт сравнительного анализа) // Философская и социологическая мысль. Киев. 1996. № 3–4. С. 72–87.
175
Юркевич П. Д. По поводу статей богословского содержания, помещенных в «Философском лексиконе» // Юркевич П. Д. Философские произведения. С. 245–350, здесь с. 326–328.
176
Там же. С. 331–332. Уже этим различением религиозного и обыденного страха Юркевич в значительной мере подрывает теории происхождения религии, подобные рассмотренной выше (но созданной позже, начиная с середины 1860-х гг.) бакунинской концепции. По этой линии возможны и интересные сопоставления аналитики религиозного сознания у Юркевича, и у Ф. Шлейермахера, У. Джемса, Р. Отто.
177
Юркевич П. Д. Сердце… // Юркевич П. Д. Философские произведения. С. 93–94.
178
Юркевич П. Д. По поводу статей… // Юркевич П. Д. Философские произведения. С. 263.
179
Специфической иллюзией философского сознания в сфере религии Юркевич считает, по-видимому, отождествление с Богом сферы истинно-сущего, т. е. мира идей. Эта иллюзия в свою очередь производна от философского рационализма, отождествляющего бытие идеальное и духовное (см. выше о трех мирах онтологии Юркевича).
180
Юркевич П. Д. По поводу статей… // Юркевич П. Д. Философские произведения. С. 263–264.
181
Там же. С. 276 сл.
182
Там же. С. 294.
183
Юркевич П. Д. По поводу статей… С. 298.
184
Там же. С. 305.
185
Там же. С. 256. Здесь легко увидеть связь идей Юркевича со святоотеческой антропологией и ее параллелизм с учением И. В. Киреевского о личности. Ср. прп. Иоанн Дамаскин: «Сам действующий и поступающий человек есть начало своих собственных действий…» (Творения преп. Иоанна Дамаскина. Источник знания. М., 2002. С. 226; см. также: Антонов К.М. Философия И. В. Киреевского. С. 202, 205).
186
Там же. С. 255.
187
Там же. С. 253.