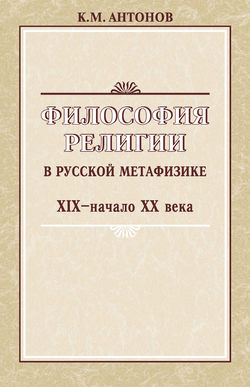Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. Философия религии в русской идеалистической метафизике конца XIX в.
В. С. Соловьев
ОглавлениеФилософская концепция Соловьева занимает особое место в истории русской мысли. Прот. Василий Зеньковский, назвавший Соловьева «наиболее ярким и влиятельным философом» «периода систем»[249], несомненно выразил consensus как историков русской философии, так и самих философов. Соловьев, с одной стороны, осуществил творческий синтез основных направлений предшествующей мысли, как мировой, так и русской: лейбницеанства, шеллингианства и гегельянства, славянофильства и западничества и т. п., а с другой – дал мощный толчок последующей русской философии и – шире – культуре Серебряного века в целом. Будучи верным для философии вообще, этот тезис верен и для философии религии. Основные тенденции, намеченные Гегелем и Шеллингом и их русскими продолжателями, о которых шла речь в предыдущих разделах: П. Я. Чаадаевым, И. В. Киреевским, А. С. Хомяковым, Ю. Ф. Самариным, П. Д. Юркевичем и их оппонентами из антирелигиозного лагеря, – получили у Соловьева систематическое развитие. Это касается идеи о двойственном течении истории религии, намеченной Чаадаевым и Хомяковым, рассмотрения истории философии как аспекта истории религиозных идей, акцентирования роли религии в становлении и специфике философских традиций, концепции веры, созданной Киреевским и Хомяковым, самаринской концепции личного откровения, начатого Чаадаевым и славянофилами пересмотра методологических оснований современного им академического богословия, специфических черт развернутой ими критики атеистического сознания и материализма, учитывающей в то же время их положительное значение. Но Соловьев не только развил и разработал эти элементы, он также привел их в систематическое единство и дал этому единству общетеоретическое обоснование, настолько убедительное, что последующие русские мыслители-метафизики вели работу в заданном им направлении, причем часто не отдавая себе в этом полного отчета, даже провозглашая на словах неприемлемость для себя тех или иных соловьевских идей. Из характерных для русской мысли тем, пожалуй, только тема критики разума не получила у Соловьева достаточно развернутого и яркого изложения.
Все эти соображения, на мой взгляд, в достаточной мере обосновывают центральность философии религии Соловьева для русской мысли и оправдывают уделяемое ей в данной работе внимание.
Прежде чем перейти к систематическому изложению, я позволю себе еще одно пояснительное замечание.
Философия Соловьева обычно именуется «религиозной». Словосочетание «религиозная философия» давно уже утратило сколько-нибудь ясный и отчетливый смысл, и ниже я попытаюсь прояснить, в каком отношении это именование может считаться отвечающим сути дела. Однако можно сказать наперед, что философ, в силу тех или иных причин как-то по особому связанный с религией, должен размышлять о ней особенно интенсивно и именно в силу данной связи эти размышления, т. е. его философия религии, во-первых, сами по себе должны обладать определенной ценностью, а во-вторых, иметь особое значение для понимания его творчества. Тем более странно, что в случае Соловьева они до сих пор становились предметом рассмотрения исследователей лишь мимоходом или отчасти[250]. Можно предположить, что само словосочетание «религиозная философия» предрасполагает исследователей рассматривать эту мысль как «непосредственное выражение религиозного опыта»[251], а это в свою очередь отвлекает их внимание от того факта, что философия представляет собой не только выражение опыта, но и, прежде всего, рефлексию над ним, исследование его. Заполнить этот пробел вполне может, по-видимому, только специальная монография. Здесь же производится только некоторая предварительная работа.
Эта работа включает в себя несколько основных моментов. Прежде всего, я постараюсь определить место философии религии в системе мысли Соловьева, ее отношение к религии, теологии и философии, уяснить ее собственную внутреннюю структуру. Далее, в соответствии с данной структурой будут намечены ее исходные основоположения, которые возникают в точках ее пересечения с этикой, теоретической философией и эстетикой. Затем представляется необходимым рассмотреть обладающие несомненной ценностью исторический и феноменологический анализы религии, предпринятые Соловьевым. За основу здесь будут приняты работы, относящиеся к концу 70-х – началу 80-х гг. XIX в.: «Чтения о Бого-человечестве», «Философские основы цельного знания», «Духовные основы жизни» и, в наибольшей мере, «Критика отвлеченных начал». Это, по мнению многих исследователей, наиболее характерный, «классический» этап философского творчества Соловьева, по отношению к которому все предшествующее легко рассматривается как подготовка, а все последующее – как развитие, приложение и, в ряде случаев, пересмотр.
В связи с последним представляется необходимым хотя бы в какой-то мере учесть и очевидный факт изменений, происходивших во взглядах философа. Эти изменения касались как некоторых частных сторон его концепции, так и некоторых наиболее существенных ее положений. Таким образом, в ходе исследования историк весьма часто оказывается перед вопросом: идет ли при этом речь о пересмотре, несовместимом с предшествующим и потому отменяющим его, или о перемене точки зрения, при которой вновь открывающаяся перспектива не отрицает предыдущей, но дополняет и корректирует ее? Вследствие этого в заключение будут рассмотрены некоторые моменты концепции философии религии, предложенной Соловьевым в наиболее законченной его работе позднего периода – «Оправдании добра».
249
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 1. С. 10.
250
Классические работы кн. Е. Н. Трубецкого, СМ. Соловьева, А. Ф. Лосева касаются этой проблематики только мимоходом. Так, например, кн. Е. Н. Трубецкой в главке «Религия Богочеловечества» лишь один абзац посвящает вопросу о том, что такое, по Соловьеву, религия, и четыре страницы вопросу о Богочеловечестве (см. Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. Соловьева. Т. 1. М., 1994. С. 322–327). Этот пробел отчасти был заполнен работами Мюллера, Саттона, Георге: Müller L. Das Religionphilosophische system Vl. Solovjovs. B., 1956; Sutton J. The Religious Philosophy of Vl. Soloviev. L., 1988; George M. Mystische und religiose Erfahrung im Denken Vl. Solov’evs. Gottingen. 1988. Большое значение для раскрытия отдельных сторон философии религии Соловьева имеют также работы: Максимов М. В. Владимир Соловьев и Запад: Невидимый континент. М., 1998; Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001; Мотрошилова Н. В. Мыслители России и философия Запада. М., 2006; Козырев АЛ. Соловьев и гностики. М., 2007. См. также: Гуревич П. С. В. С. Соловьев как философ религии // В. Соловьев и философско-культурологическая мысль XX в. Иваново, 2000. С. 188–191; Шахнович М. М. В. С. Соловьев и феноменологическое религиоведение // Очерки по истории религиоведения. СПб., 2006. С. 106–120; Половинкин СМ. В. С. Соловьев и русское неолейбницеанство // Вопросы философии. М., 2002. № 2. С. 90–96. Ряд важных моментов так или иначе затрагивался в выходящих в Иванове сборниках «Соловьевские исследования». См., напр.: Максимов М. В. Метафизические основания историософии Вл. Соловьева // Соловьевские исследования. Вып. 1. Иваново, 2001. С. 47–74; Куликова О.Б. Гносеологический аспект отношений веры и разума в контексте воззрений В. С. Соловьева // Там же. С. 109–122; Козлова О. В. Проблема личности в философии В. С. Соловьева // Соловьевские исследования. Вып. 5. С. 128–149; Аринин Е.И. Субстанциональность религии в трактовке Вл. Соловьева: между Гегелем и П. Рикером // Соловьевские исследования. Вып. 7. 2003. С. 134–148.
251
Sutton. Op. cit. P. 179.