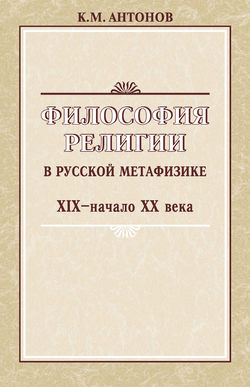Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Истоки и предтечи: становление философии религии и ее развитие в русской философии середины XIX в.
Философия религии Ю. Ф. Самарина
Становление
ОглавлениеНиже я рассмотрю три этапа философии религии Ю. Ф. Самарина, которые соответствуют трем последовательным моментам его интеллектуальной и духовной биографии. Основное внимание будет уделено третьему этапу как наиболее интересному и оказавшему наибольшее влияние на последующую русскую мысль.
Первый этап, захвативший конец 1830-х – начало 1840-х гг., проходит под преимущественным влиянием Гегеля. В это время в центре внимания Самарина находится проблема соотношения религии и философии. Для него, как и для многих молодых людей его поколения, это была не только теоретическая, но и жизненная проблема. Первоначально Самарин рассматривает философию как истину религии и ее необходимое оправдание. Существенно при этом, что, в отличие от более радикально настроенных гегельянцев вроде А. И. Герцена, М. А. Бакунина и В. Г. Белинского, Самарин вместе с К. С. Аксаковым отнюдь не стремится к разрыву с православием и религией вообще. В результате из-под его пера выходят довольно-таки любопытные тексты:
«Православие явится тем, чем оно может быть и восторжествует только тогда, когда его оправдает наука, вопрос о Церкви зависит от вопроса философского, и участь Церкви тесно, неразрывно связана с участью Гегеля… отлагаю занятия богословские и приступаю к философии» (письмо к А. Н. Попову, 1842)[189].
Все это время Самарин работает над магистерской диссертацией о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче, причем его подход к материалу в значительной степени предопределен гегелевской идеей единства, борьбы и снятия противоположностей. Католицизм и протестантизм представляют собой односторонности, выделившиеся из первоначального единства и пребывающие между собою в борьбе как тезис и антитезис. В православии эти противоположности пребывают в «снятом» виде, как моменты церковной полноты, как возможности. Эти возможности переходят в действительность под влиянием извне, т. е. со стороны католицизма и протестантизма, и именно к этому моменту «раздвоения и борьбы» относится деятельность Яворского (в которой проявилось католическое начало) и Прокоповича (в которой проявилось начало протестантское)[190]. Церковь, преодолевая это внутреннее раздвоение, должна, по мысли Самарина, выступить как высшее начало, снимающее односторонние противоположности[191].
Несмотря на изящество этой композиции, к моменту защиты диссертации в 1844 г. она, в сущности, оказывается уже пройденным этапом. Где-то около этого времени Самарин переживает глубокий духовный кризис, связанный со все той же проблемой отношения религии и философии. Из двух форм человеческой деятельности, каждая из которых претендует на первенство в их общем ансамбле в культуре, оказалось необходимым выбрать одну – ту, которая оказалась бы реально главенствующей в его личном ансамбле. Необходимость выбора диктовалась не только существом дела: перед глазами Самарина был пример его уже упоминавшихся сверстников, со многими из которых его связывали дружеские отношения. Сделав выбор в пользу философии, они, подобно Л. Фейербаху и младогегельянцам в Германии, стремительно эволюционировали в сторону окончательного разрыва с любой традиционной формой религиозности, к радикальному атеизму. Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков и еще целый ряд молодых людей, составивших второе поколение так называемых славянофилов, сделали противоположный выбор. Интеллектуальное обоснование этого выбора и пример его реализации в жизни они получили от славянофилов первого поколения, прежде всего А. С. Хомякова и И. В. Киреевского[192].
Суть произошедшего переворота удачно выразил Б. Э. Нольде: «Православие Самарина есть в первую очередь акт его воли. Он спас свою веру в ту минуту, когда, благодаря Хомякову, он понял, что религиозная истина утверждается, а не доказывается»[193]. Вера является не выводом, а предпосылкой мышления[194].
Хотя это обращение Самарина первоначально было интеллектуально обоснованным волевым актом, оно, тем не менее, оказало глубокое влияние на весь строй его духовной жизни, определив его стремление к «цельности религиозного сознания». Необходимым элементом этого стремления, помимо чисто религиозных средств, стало и философское размышление, в том числе – а возможно и в первую очередь – полемического характера. В середине 1840-х гг. Самарин включился в полемику славянофилов и западников.
К этому времени относится второй этап его философии религии. В первой полемике с К. Д. Кавелиным (1847)[195] эта проблематика не стоит на первом плане, она скрыта за разбором исторических фактов и проблем философии истории, однако наряду с антропологией[196] играет роль «невысказанной предпосылки». Именно разногласия по поводу коренных проблем учения о человеке и философии религии не позволяют участникам полемики понять друг друга в более узких и специальных вопросах «юридического быта Древней Руси».
Общую логику философии истории Кавелина, представляющего в данном случае позицию западников в целом, можно описать следующим образом: первоначальный патриархальный родовой строй (тезис – это скорее еще праистория) разлагается под воздействием войн и других неблагоприятных моментов, в результате чего ему на смену приходит новое начало истории (уже собственно истории) – личность (антитезис)[197]. Это историческое движение совершалось прежде всего принявшими христианство германскими народами, обладавшими развитым чувством личности. Эта личность противопоставляет себя как предшествующему родовому началу (и любым надындивидуальным структурам вообще), так и другим личностям, с которыми она находится в состоянии перманентной войны. Однако конечным пунктом истории предстает здесь «глубокое внутреннее примирение личностей» (синтез), достигаемое путем присвоения ими идеального содержания, раскрывающегося, точнее, рождающегося в ходе исторического процесса, в результате чего «личность» превращается во всесторонне развитого «человека». Славянским племенам принадлежит в этом движении явно второстепенная роль: развив в себе начало личности, по образцу германцев, они должны затем «выйти на одну дорогу» с последними.
Несмотря на известную предвзятость Кавелина, ему нельзя отказать в попытке продемонстрировать реальный социальный механизм становления человеческой личности. Его мысль работает по гегельянской схеме, в которой развитие осуществляется через борьбу противоположностей, однако это гегельянство, редуцированное в духе Л. Фейербаха: речь идет о становлении в истории тех или иных структур человеческого самосознания без какой бы то ни было отсылки к трансцендентным сущностям вроде Промысла Божия, Абсолютного Духа или Абсолютной Идеи.
Взявшись оппонировать Кавелину, Самарин указывает на то, что в данной логике универсализация одного исторически специфического пути становления личности – германского – достигается путем некритического отождествления его с христианским пониманием личности, которое к тому же предстает у Кавелина в сильно редуцированном виде.
«”Христианство внесло в историю идею о бесконечном, безусловном достоинстве человека”, – говорите вы, – человека, отрекающегося от своей личности, прибавляем мы, – и подчиняющего себя безусловно целому. Это самоотречение каждого в пользу всех есть начало свободного, но вместе с тем безусловно обязательного союза людей между собою. Этот союз, эта община, освященная вечным присутствием Св. Духа, есть Церковь»[198].
Здесь Самарин хочет, с одной стороны, принять всерьез христианское благовестие и сделать его исходным пунктом своей мысли, а с другой – принять правила игры своего оппонента и продумать содержание христианской вести в ее социологическом аспекте. Надо признать, что этот ход мысли Самарина был явно неудачным: присутствие экклесиологической терминологии позволило Кавелину проигнорировать самое существо его возражения под предлогом «несовременности» его взгляда, а исключение метафизического аспекта антропологии позволило истолковать его мнение в духе «принижения» личностного начала в человеке (чему способствовала и известная опечатка)[199].
Самарин, поставив под сомнение всеобщность германского пути становления личности «через отрицание», пытается различить «личность с характером исключительности, ставящей себя мерилом всего, из себя самой создающей свои определения (т. е. германскую романтическую личность. – К.А.), и личность как орган сознания»[200].
По его мнению, ошибка Кавелина состоит именно в их неразрывности, из которой вытекает неразрывность германства и человечности: «Германцу оставалось вырабатывать себя в человека; русский должен был сперва сделать из себя германца, чтобы потом научиться от него быть человеком»[201]. В действительности, однако, христианство уже «внесло сознание и свободу в национальный быт славян»[202].
Корни исторических разногласий уходят здесь в область антропологии и философии религии. Самарин возражает Кавелину, противопоставляя «личности», понятой как рефлексивность, «идею человека» как «абсолютную норму», как «объективное мерило личности»[203]. Эта норма не может возникнуть внутри исторического процесса, из саморазвития личности, отрицающей все надындивидуальные структуры. Следовательно, она приходит в сознание человека извне, «из сферы религии»[204]. Эта позиция предполагает понимание личности как инстанции, трансцендентной по отношению к природному и социальному миру и актуализирующейся в конкретном и уникальном отношении данного человека к Абсолютному Бытию, к Богу. Мы, однако, не найдем у Самарина ничего подобного. Он не делает даже попытки обрисовать становление человеческой личности с христианских позиций, просто постулируя ее «свободное и сознательное отречение от своего полновластия»[205] в общине. Движущие силы и условия возможности этого акта он не рассматривает.
Тем самым, христианская идея личности, принцип откровения требуются и предполагаются мыслью Самарина, однако никак не могут вместиться в ее горизонт, поскольку вытесняются парадигмами немецкой классики и французского социализма[206]. В целом, общая размытость, социологический уклон мысли и недостаточно разработанное различение народного и церковного общинного начала сильно ослабляют его позицию.
Эта неудача Самарина наглядно продемонстрировала славянофилам необходимость продумывания философских основ своей позиции: прежде всего, учения о личности, обществе и Церкви – что и стало основным предметом работ И. В. Киреевского и А. С. Хомякова 1850-х гг. Их идеи, в свою очередь, легли в основу философских разработок Самарина 60–70-х гг.[207]
Действительно, переосмысление учения Киреевского о вере как о «непосредственном сознании об отношении Божественной личности к личности человеческой»[208], в котором последняя как бы впервые становится сама собой, и учения Хомякова о Церкви как «единстве Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати»[209], должны рассматриваться как предпосылки идеи Самарина о «непосредственном и личном восприятии сознательного и преднамеренного воздействия Бога на человеческую жизнь»[210], как факте, который в качестве такового подлежит не доказательству, а удостоверению, верификации[211]. Эта мысль о личном откровении как фундаменте любого религиозного сознания лежит в основе самаринской философии религии и его критики богословского и философского рационализма.
В «Предисловии к богословским сочинениям А. С. Хомякова» (1862) продолжается начатая в диссертации тема «западного пленения» православной богословской школы. Суть этого пленения Самарин усматривает в подчинении западному образу мысли, основанному на требовании доказательств. Рационализм, начальными формами которого оказываются католичество и протестантизм, достигает своего самосознания в современной западной (послегегелевской) философии и заявляет себя как нигилистический материализм. Основной заслугой Хомякова Самарин считает уяснение этого отношения, выявление начал подлинно церковного мышления и, тем самым, создание условий для эффективной апологетической полемики с рационализмом.
189
Самарин Ю.Ф. Соч. Т. XII. М., 1910. С. 100.
190
В этом отношении его идея оказалась очень продуктивной, и неслучайно историки XX в. рассматривали это время как эпоху «западного пленения» (о. Г. Флоровский) православного богословия.
191
См.: Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избр. произв. М., 1996. С. 18–20.
192
См.: Попов А.А. Влияние А. С. Хомякова на формирование философских воззрений Ю. Ф. Самарина // А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист: Сб. ст. по материалам межд. науч. конф. Т. 1–2. М., 2007. Т. 1. С. 194–200.
193
Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926. С. 31.
194
Сам Самарин отрефлектировал этот переворот и его последствия в своей самой, может быть, известной работе: «Предисловии к богословским сочинениям А. С. Хомякова» (1862) (см.: Самарин Ю.Ф. Соч. Т. VI. М., 1887. С. 327–370).
195
История этой полемики вкратце такова. В 1847 г. «Современник» переходит в руки А. В. Никитенко, В. Г. Белинского, Н. А. Некрасова. Тогда же появляется ряд программных статей нового руководства журнала: «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» Белинского, «О современном направлении русской литературы» Никитенко и «Взгляд на юридический быт древней России» К. Д. Кавелина. В последней философия истории западничества впервые получает систематическое развитие и обоснование в виде известной «теории родового быта». Реакцией на нее, а также на статьи Белинского и Никитенко, стала большая статья Ю. Ф. Самарина «О мнениях “Современника”, исторических и литературных» (Москвитянин. 1847. Кн. 2). Самарину в свою очередь отвечали В. Г. Белинский и К. Д. Кавелин в статьях, одинаково озаглавленных «Ответ “Москвитянину”». Этот весьма жесткий обмен мнениями способствовал окончательному размежеванию славянофилов и западников и уяснению общественных, исторических и литературных позиций обеих партий. Он подготовил и философское обоснование этих позиций в работах И. В. Киреевского и А. С. Хомякова, с одной стороны, А. И. Герцена, М. А. Бакунина – с другой.
196
Об антропологических основаниях и предпосылках данного спора см.: Антонов К.М. Философия И. В. Киреевского. С. 136–146. Поскольку это необходимо для связности изложения, здесь я воспроизвожу это рассуждение с поправками, соответствующими предмету настоящей работы – философии религии.
197
Кавелин К.Д. Наш умственный строй. М., 1989. С. 16–22.
198
Самарин Ю. Ф. «О мнениях “Современника”, исторических и литературных» // Самарин Ю. Ф. Избр. произв. С. 411–482, здесь с. 417.
199
Речь идет об опечатке, допущенной при издании статьи Самарина в «Москвитянине» (который вообще был известен своей неряшливостью). В вопросе Самарина: «Каким образом начало разобщающее обратится в противоположное начало примирения и единения? Каким образом, говоря словами автора, понятие о личности перейдет в понятие о человеке?» – вместо «примирения» было напечатано «принижения», что, естественно, сильно искажало мысль автора, однако, как видно, у публики были основания, для того чтобы принять эту опечатку за чистую монету. Так же воспринял ее и столь незаинтересованный наблюдатель этой полемики, как П. Д. Юркевич (см.: Юркевич П.Д. Избр. произв. С. 252–253).
200
Там же. С. 423.
201
Там же. С. 425.
202
Там же. С. 443.
203
Самарин Ю. Ф. О мнениях… С. 423.
204
Там же. С. 442.
205
Там же. С. 443.
206
О влиянии социалистических идей на Самарина см.: Цимбаев Н. И., Смирнова Н.А. Примечания // Самарин Ю. Ф. Избр. произв. С. 575.
207
Примерно так представляли себе ход событий М. О. Гершензон и о. В. Зеньковский (см. Зеньковский. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. С. 31–33).
208
Киреевский И. В. Отрывки // Киреевский И. В. Разум на пути к истине. С. 281.
209
Хомяков А. С. Церковь одна // Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 5.
210
Самарин Ю. Ф. Замечания по поводу сочинения М. Мюллера по истории религии // Соч. Т. VI. С. 492–523, здесь с. 515. Название этого текста принадлежит не самому Самарину, но его издателям. Он представляет собой три письма, написанных философом по-немецки незадолго до смерти по просьбе одного немецкого знакомого (профессора Берлинского университета), который одновременно был знаком и с М. Мюллером и, кажется, собирался познакомить немецкого ученого с этой критикой. Последнее письмо Самарин закончить не успел, о знакомстве Мюллера с его текстом ничего не известно (см. об этом в предисловии Д. Ф. Самарина: Самарин Ю. Ф. Соч. Т. VI. С. 483–485).
211
Конечно, условие полемики, факт влияния могут объяснить и успешно объясняют только развитие и усовершенствование той или иной теории, тогда как в данном случае речь идет о чем-то большем: о переходе к принципиально иному пониманию человека и религии. В основе такого перехода может лежать только личный духовный опыт, в котором неразрывно соединяются непосредственное переживание и его последующее осмысление. Напряженная духовная жизнь славянофилов, сопровождаемая интенсивной рефлексией, создавала оптимальные условия для поиска все более адекватных средств своего выражения. Творчество Самарина являет наглядный пример такого поиска.