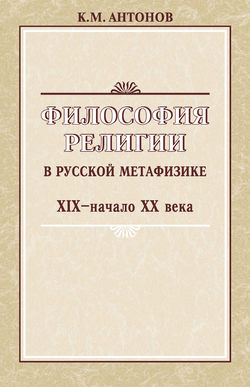Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Введение
Философия религии в системе рефлексивных структур религиозной традиции
ОглавлениеПредварительно, однако, я позволю себе дополнить проведенное выше сущностное рассмотрение генетическим, позволяющим уточнить отношения указанных дисциплин и вместе с тем – наметить более дифференцированную, чем предложенная Кимелевым, типологию внутри самой философии религии. Здесь следует ввести еще несколько определений.
В дальнейшем я буду называть рефлексией способность сознания делать свои состояния своим предметом. Рефлексивными структурами я буду называть постоянные формы деятельности, с помощью которых участники религиозной традиции понимают те содержания, которые они переживают в ходе своей религиозной жизни. Вслед за М. Вебером я буду называть религии с неразвитыми рефлексивными структурами – «традиционными», а религии, где эти структуры играют существенную роль в жизни верующих, – «рационализированными». Рационализацией, вслед за К. Гирцем, я буду называть проявляющуюся в жизни религиозной традиции тенденцию ко все более общим постановкам вопросов и связанное с этим стремление к когерентизации системы представлений[13].
Я полагаю, что существенную роль в становлении рефлексивных структур (в частности, и в возникновении русской философии) играет феномен религиозного обращения, т. е. происходящий в душе субъекта поворот от мирского, протекающего преимущественно в прагматическом ключе течения жизни, к ее сакральным основам и связанные с этим поворотом изменения в его сознании и образе жизни[14].
Здесь следует отметить тот факт, что религиозное обращение в той или иной форме пережили весьма многие деятели русской философии и русской культуры вообще. Достаточно назвать, с одной стороны, Ивана Лопухина, П. Чаадаева, И. Киреевского, К. Леонтьева, Вл. Соловьева, братьев Трубецких, авторов сб. «Вехи», таких писателей, как Пушкин, Жуковский, Гоголь, Достоевский, а с другой – Белинского, Бакунина, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Толстого, – чтобы почувствовать значение отношения мыслителя к Богу и Его Церкви, его обращенности к Нему или от Него в развитии русской мысли. Однако специальное рассмотрение роли феномена обращения в истории русской мысли – дело особого исследования. Здесь я коснусь лишь самого общего аспекта данной темы.
Практически во всех религиозных традициях обращение мыслится как более или менее непосредственный результат предваряющего воздействия на человека со стороны Божественного начала. Именно из понимания повседневного течения религиозной жизни субъекта как «обмирщенного» возникает потребность дать отчет в существе того «священного», которое лежит в основе этой жизни. Из этого порыва преобразовать и очистить «обмирщенную повседневность» (пусть даже она включает в себя религиозную символику и утверждает, что конституируется именно ею) вырастают богословские, философские и другие рефлексивные элементы традиции, стремящиеся к выявлению ее существа и установлению его господства в жизненном мире людей данной традиции. Они конституируются потребностью в более рациональном и последовательном осмыслении своего религиозного опыта, выходящем за рамки традиционного бытового уклада, и осмыслении всей совокупности своего опыта с религиозных позиций.
Соответственно, реализовать данную потребность оказывается возможно только при наличии выходящих за рамки обыденного сознания средств такого осмысления. Среди этих средств первое место принадлежит, конечно, богословию[15]. В любой религиозной традиции существуют понятия, специально образованные для того, чтобы обозначать реальности, данные человеку в религиозном опыте. Интеллектуальные усилия, направленные на то, чтобы оформить эти понятия и с их помощью придать когерентность картине мира и этосу данной религии, образуют тот тип рефлексии, который может быть назван «теологическим»[16].
Ясно, что любой человек, называющий себя верующим и участвующий в жизни конкретной общины, не может обойтись без этого способа самопонимания, хотя, как в богословии, так и во всех рефлексивных структурах, следует различать сообщество авторов, в целях самоосмысления создающих некоторую совокупность текстов (т. е. рефлексивный язык и литературу на нем) и сообщество-аудиторию, т. е. людей, использующих данную совокупность текстов в целях самоосмысления. От успешности коммуникации между ними во многом зависит внешняя дееспособность традиции.
Приходя к наиболее общим вопросам о структуре реальности и рациональности, лежащей в основе этой структуры, теология переходит к философской рефлексии, в основе которой, однако, неизбежно лежат соответствующие теологические предпосылки. Этот тип философии стоит, возможно, вслед за Н. А. Бердяевым называть «теологической философией», отличая ее от религиозной философии в собственном смысле. Классический пример философии такого рода – средневековая западная схоластика. Философия реализуется здесь как методическая систематизация и рациональное обоснование теологического знания (Ансельм), а позже, в томизме, как «естественная теология». Основные вопросы философии религии ставятся и решаются здесь не исходя из внутренних потребностей развития мысли, но прежде всего полемически. Так обстоит дело с проблемами соотношения веры и знания, философии и теологии, откровения и рациональности, церкви и государства.
В России этот тип философствования развивался главным образом в рамках духовных академий. Это прежде всего представители МДА прот. Ф. Голубинский, В. Д. Кудрявцев-Платонов, А. И. Введенский, перешедший из КДА в Московский университет П. Д. Юркевич и ряд других мыслителей. Они внимательно следили за развитием европейской, в том числе антирелигиозной, мысли. Оппонируя последней, они ставили и решали не только указанные выше традиционные проблемы, но и вопросы более общего характера: о природе религии, откровения, религиозного опыта и т. д.
Однако, будучи безусловно необходимым, теологический тип рефлексии ни в коем случае не является достаточным. В соответствии со структурой человека как существа не только рационального, но и волевого и эмоционального теологическая рефлексия необходимо дополняется этико-правовой, фиксирующей совокупность желательных, с точки зрения традиции, направленностей воли субъекта; и художественной – литературной, поэтической, изобразительной, музыкальной, – формирующей его эмоциональный строй.
Вместе художественная, этико-правовая и теологическая деятельности образуют первый уровень рефлексивных структур религиозной традиции, причем именно в теологии, особенно если она обладает к тому же философской завершенностью, рефлексия достигает наибольшей полноты и ясности. Тем не менее она этим не ограничивается.
Фиксируемое естественным сознанием многообразие религиозной жизни, рассматриваемое рефлексивно, порождает вопрос о сущности религии, который первоначально ставится, с одной стороны, как эмпирический: какие вообще бывают религии? – а, с другой, как апологетический: почему я должен отдавать предпочтение своей религии? – вопрос. Эта форма рефлексии развивается первоначально в рамках теологии, но принципиально отличается направленностью своего вопрошания: ее предметом впервые становится не объект религии и не сущность религиозного отношения, но религия в ее эмпирической данности. Тем самым осуществляется переход на новый уровень рефлексивного отношения: возникает наука о религии. В своем развитии она порождает многообразие научных религиоведческих дисциплин, чья рефлексия о религии имеет, как правило, внешний, отстраненный характер[17].
На основе такого религиоведческого исследования из стремления к обобщению его результатов или из осознания его ограниченности также может возникнуть определенная философия религии. Впрочем, для русской мысли, вследствие того что религиоведческие дисциплины не были здесь институциализированы в достаточной мере, этот ход развития событий нехарактерен.
Как теологическая, так и религиоведческая рефлексия едины в том, что каждая из них свой способ понимания религиозной жизни считает само собой разумеющимся и не требующим дополнительного обоснования. Претензии теологии на непогрешимость своих выводов и оснований, поскольку она полагает, что последние принадлежат к области божественного откровения, соответствует претензия религиоведения на объективность установленных им фактов и общезначимость даваемых им объяснений. В обоих случаях их реальная связь с личным опытом богослова или ученого выпадает из сферы внимания, а вместе с тем утрачивается представление об изначальной проинтерпретированности фактов и данных, имеющихся в их распоряжении, а также об историчности используемых ими объяснительных схем, терминологических систем, типов рациональности. Тем самым, как в теологии, так и в науке о религии происходит описанный в поздних работах Э. Гуссерля разрыв смысловых связей между соответствующим научным дискурсом и жизненным миром как его «забытым смысловым фундаментом»[18]. По существу, это и есть пресловутый «рационализм» – основное обвинение, предъявленное когда-то Западу русской философией в лице славянофилов, но в действительности – имманентная болезнь, присущая всякой сознающей себя рефлексивности.
В результате понимание того, что есть религия, оказывается утраченным, и теология и религиоведение по-разному переживают кризис своих оснований.
Этот кризис сказывается, прежде всего, на отношениях между ученым сообществом и сообществом-аудиторией, которой становится непонятным ни зачем человеку становиться и быть теологом или религиоведом, ни зачем нужно читать то, что ими написано. Результатом профанирующих (рационализирующих в указанном выше смысле) интерпретаций и объяснений оказывается ситуация, в которой личный опыт представляется несоизмеримым научному дискурсу об этом опыте; в свою очередь, последний предстает как «дискурс ни о чем» или «о чем-то другом», чем то, о чем он говорит, согласно намерению автора и ожиданию читателя[19]. Тем самым, религиозный опыт как таковой оказывается исключенным из системы осмысляющих практик.
Но сознание, фиксирующее такое положение дел, фиксирует тем самым обмирщенность самой этой системы. Эта обмирщенность переживается сообществом-аудиторией[20], поскольку оно пытается рефлексивно воспроизвести и осмыслить свой опыт на основе соответствующих рефлексивных структур. Она же переживается представителями сообщества ученых, поскольку они ощущают указанную оторванность их усилий от естественного течения жизни традиции. Это переживание, переходя в сферу естественного сознания и затем становясь предметом рефлексии, обращает ее (рефлексию) к поиску утраченных оснований. Тем самым вновь запускается механизм религиозного обращения, который порождает новый уровень рефлексивных структур, не укладывающийся ни в рамки теологии, ни в рамки религиоведческой науки в узком смысле, хотя порой незаметно и часто неосознанно для самого субъекта примешивающийся к ним. Именно этот уровень я буду в дальнейшем называть религиозной философией. Здесь будет дана только его краткая предварительная характеристика.
Описанный выше процесс утверждения рационализма, по существу, есть один из наиболее существенных аспектов более общего процесса секуляризации[21], т. е., в наших терминах, процесса вытеснения религиозного опыта на крайнюю периферию жизненного мира человека традиции (или вообще за его пределы). В такой ситуации вторжение этого опыта в этот жизненный мир сопровождается шокирующим изумлением, порождающим специфическую форму его осмысления – религиозную философию. Она является философией, поскольку стремится уяснить предельные онтологические основания, условия возможности и эпистемологические следствия данного опыта; она является религиозной, поскольку данный опыт и порождаемые им проблемы становятся ее «ультимативной заботой» (Тиллих), рассматриваются ею как το τιμιοτατον (Плотин, Л. Шестов) человеческой жизни.
Вследствие указанных причин религиозная философия начинает свое осмысление религии практически с нуля: ситуация, описанная выше, ведет к тому, что все существующие способы осмысления представляются ей либо недоступными, либо неадекватными существу дела. Тем самым она стремится к (по возможности) чистому описанию религиозного акта и структур религиозного сознания, т. е. так или иначе приходит к философии религии, для которой феноменологический подход представляет собой не определенную научную дисциплину, направление или теорию и не последовательно практикуемый метод, но скорее само собой разумеющееся начало всякого размышления.
Таким образом, религиозная философия оказывается перед известным трансцендентальным вопросом «Как возможна религия?», при том что ни конкретная форма религии, ни объективная реальность предметов религиозного опыта не являются для нее чем-то наперед данным, само собой разумеющимся[22]. Напротив, в ходе исследования они необходимо заключаются в феноменологические скобки, причем важным моментом этой процедуры может быть методологическое и (сообразно предмету) также экзистенциальное сомнение и даже отрицание известных истин и форм их выражения. Деструкция общепринятых представлений суть тем самым необходимый аспект религиозно-философской мысли, который, однако, может быть по-разному представлен в творчестве разных мыслителей: как окончательное выражение их мировоззрения (Ницше, Фрейд, Герцен, Писарев, Толстой, Розанов), как этап их личного духовного становления (большинство русских мыслителей Серебряного века), как диалектический момент их мысли (Ксенофан, Гераклит в Древней Греции, Кьеркегор на Западе, Ф. М. Достоевский, особенно в «Братьях Карамазовых», первые главы «Столпа…» о. П. Флоренского в русской мысли).
Однако эта деструкция «мирского, выдающего себя за священное» в рефлексивном рассмотрении сама может представать перед исследователем как форма переживания реально священного, как своеобразный религиозный опыт, в самом себе содержащий требование перехода от отрицания к утверждению[23]. Это утверждение может в дальнейшем принимать ту или иную концептуальную форму, неизменно сохраняя при этом связь с событием религиозного обращения.
Тем самым в рамках религиозной традиции возникает своего рода возвратный механизм, позволяющий ей, с одной стороны, справляться с рационализмом на теологическом и научном уровне, а с другой – адаптировать для собственных нужд достижения научной и философской критики, путем диалектического включения их в собственный философский дискурс. Как видно из вышесказанного, философия религии представляет собой одну из необходимых и наиболее важных «шестеренок» этого механизма.
Итак, мы можем теперь различать не два, а три типа философии религии, генетически связанные, соответственно, с теологией, наукой о религии и религиозной философией[24]. Из них именно на последний вариант в настоящей работе будет обращено наибольшее внимание.
13
См.: Гирц К. «Внутреннее обращение» на современном Бали // Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 221–224, здесь с. 202–205.
14
Подробнее см.: Антонов К.М. Феномен религиозного обращения и его место в истории русской мысли // История мысли: русская мыслительная традиция: Альманах. Вып. 2. М., 2003. С. 4–21.
15
О возникновении догматического богословия из «заботы Церкви о чистоте христианского учения» см. также: Помазанский М., прот. Православное догматическое богословие. Джорданвилль, 1963. С. 5–6.
16
Ср.: Помазанский М., прот. Православное догматическое богословие. С. 7: «Гармонически сливающиеся в одно целое истины Писания и Предания определяют собою “соборное сознание” Церкви, руководимое Духом Святым».
17
См. об этом, напр.: Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 35. Здесь может быть поставлен вопрос (справедливый и по отношению ко всему данному рассуждению) о том, насколько предлагаемая схема соответствует фактам истории теологии, религиоведения, философии религии, т. е. насколько она подтверждается или опровергается ими. Представляется, что ряд фактов этой истории, особенно второй половины XIX – первой половины XX века, получает в рамках данной схемы вполне удовлетворительное истолкование. Цель всего рассуждения, однако, несколько иная: оно направлено не столько на объяснение возникновения во времени тех или иных институциональных форм, сколько на понимание логики становления различных «познавательных интересов», на которых эти институциональные формы основаны.
18
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004. С. 74–75.
19
Мотив, как мы увидим в дальнейшем, весьма характерный для отношения русской философии и к академическому богословию, и к научному изучению религии.
20
Отсюда принципиально лаический (а не мирской, как часто и неправильно пишут) характер «интеллигентской» (т. е. не академической) русской философии. Она передает переживание и отношение к делу богословской аудитории.
21
Более точное описание отношения между этими процессами в рамках данного текста невозможно, по недостатку места.
22
См.: Булгаков С.Н. Свет Невечерний. С. 15.
23
Особенно ярко это продемонстрировано в «Крушении кумиров» и «Свете во тьме» С. Л. Франка, а также в ранних произведениях Л. Шестова, посвященных истолкованию творчества Ницше.
24
Д. В. Пивоваров, предлагающий сходную тройственную схему, однако, просто рассматривает теологию и религиозную философию как типы философии религии, что является, на мой взгляд, неоправданным упрощением (см.: Пивоваров Д. В. Философия религии. С. 9).