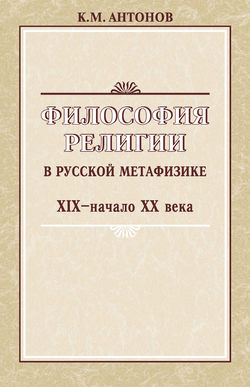Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Введение
Философия религии, теология, религиоведение. Что же имеется в виду под философией религии?
ОглавлениеВ содержательной статье «Исторический генезис философии религии» В. К. Шохин указывает на три основных сложившихся в отечественной и зарубежной литературе подхода к определению ее специфики и проблемного поля[1]. Если одни авторы фактически склонны отождествлять философию религии с любым отношением философов к религии вообще (философия религии в широком смысле), включая и рассуждения философов на религиозные темы, то другие относят к ней только систематически развиваемые философские теории религии (философия религии в узком смысле). Наконец, третьи (и эту идею разделяют многие современные отечественные авторы[2]) пытаются так или иначе учесть оба понимания в их различии и соотношении.
Вопреки аргументам, приводимым Шохиным в пользу узкой, по видимости наиболее строгой, концепции, именно третий вариант представляется мне наиболее предпочтительным. И прежде всего, он в наибольшей мере отвечает сложившейся практике рассмотрения проблем философии религии в современной литературе (как англо-, так и германоязычной), где наряду со специфическими проблемами, связанными с определением сущности религиозного отношения, анализом языка религии, когнитивным потенциалом религиозного опыта и другими подобными, по-прежнему большое место занимают проблемы, связанные с так называемой «философской теологией»: атрибутами Бога, доказательствами бытия Божия и другими[3]. Такое положение дел представляется неслучайным. В самом деле, как бы ни хотелось нам разделять «философию в религии» и «философию о религии», осуществить это различение на практике вряд ли возможно, поскольку, как справедливо утверждает сам Шохин: «Философское осмысление религии мировоззренчески ненагруженным быть не может»[4]. Однако, если в рамках философского дискурса его мировоззренческая нагруженность не может оставаться без рефлексивного самоосознания и самообоснования, это и означает, что узкий смысл термина в данном случае предполагает его широкий смысл как значимый фон, вне которого теории, относящиеся к узкому кругу философии религии, вряд ли могут быть адекватно поняты.
В связи со сказанным, наиболее значительной попыткой систематизации философско-религиозного знания в его современном состоянии (с учетом, разумеется, истории его становления) в нынешней отечественной литературе мне представляется работа Ю. А. Кимелева «Философия религии: систематический очерк». В силу этого некоторые ее важнейшие определения (с соответствующими уточнениями и поправками, определенными спецификой русской мысли) будут использованы для выделения проблемного поля нижеследующей работы.
Итак, Ю. А. Кимелев различает широкий и узкий смысл данного понятия. В широком смысле философия религии – «это совокупность актуальных и потенциальных философских установок по отношению к религии, концептуализаций ее природы и функций, а также философских подтверждений (а также опровержений. – К.А.) существования Бога, философских рассуждений о Его природе и отношении к миру и человеку»[5]. Соответственно в узком смысле «это эксплицированное автономное философское рассуждение о Боге и о религии – особый тип философствования»[6]. В истории философия религии выступает либо как особая тема, либо как раздел философской системы, либо как «обособившаяся философская дисциплина». В зависимости от целей философского исследования она может выступать либо как философская теология, либо как философское религиоведение, либо как сочетание той и другой формы при преобладании одной из них[7]. Несмотря на то что Кимелев осуществлял свою концептуализацию философии религии главным образом на основе западного материала, все эти определения в целом вполне релевантны и для русской мысли.
Но вернемся пока к самой философии религии. Несмотря на то что она существует в двух основных формах – философская теология и философское религиоведение (впоследствии мы увидим, что в генетическом плане следует выделять еще и третью), – ее следует для наших целей как можно более строго отличать от теологии и научного религиоведения в узком смысле. Попытаемся провести это различение.
Предмет философии религии – именно религия, как таковая, а не те или иные ее частные аспекты, не Бог в том смысле, в каком к Его познанию стремится метафизический или мистический гнозис, и не вероучение в том смысле, в каком к его систематизации стремится научное богословие[8]. Будучи философской рефлексией по поводу религии, философия религии стремится философскими средствами выявить основополагающие, сущностные черты религии. Делать это можно по-разному. В зависимости от того философского направления, к которому принадлежит мыслитель, он будет исследовать религиозное сознание, анализировать язык религии, выяснять онтологические условия возможности религиозного опыта, его гносеологическую ценность, степень его объективности, его согласованность с другими формами человеческого опыта, сущностные черты человека как homo religious. Это не значит, что философия религии обязательно религиозна или обязательно атеистична. Она может, например, прийти к выводу об иллюзорности религиозного опыта. Но даже придя к такому выводу, она должна ответить на вопрос, как, в силу каких причин и условий (социальных, психологических, лингвистических) становится возможной и действительной (а может быть, и необходимой) эта иллюзия. Итогом этого предварительного, стремящегося к беспредпосылочности, исследования становится то или иное определение религии, прояснение тех понятий, которые с точки зрения этого определения оказываются наиболее существенными, выяснение их соотношения между собой, их содержания, объема, структуры. В конечном счете философ религии дает и тот или иной ответ и на вопрос о гносеологической ценности религиозного опыта[9]. В результате философия религии определяет, с одной стороны, методологию религиоведческого (а отчасти и теологического) исследования, его предметность и языковой каркас, а с другой – личную религиозную позицию мыслителя.
Сказанным определяется и еще одна важная функция философии религии: нормативная. Стремясь к выявлению основополагающих аспектов религиозного отношения, она неизбежно рассматривает это отношение не только в модусе сущего (как оно есть), но и в модусе должного (каким оно должно быть), что и определяет ее более или менее критическое отношение к существующим или существовавшим в прошлом религиям. Эта тенденция к рефлексивному пересмотру тех или иных фактически наличных сторон религиозного сознания необходимо присуща философии религии, независимо от апологетической или критической направленности идей конкретных мыслителей, и является одним из наиболее мощных стимулов ее развития (религиозный идеал, его роль в истории религии). В дальнейшем мы увидим, каким образом эта тенденция реализовалась в истории русской мысли.
В результате мы получаем следующий порядок: от предварительного, по возможности непредвзятого (точнее, стремящегося к осуществлению возможно более полной рефлексии относительно собственных предпосылок), реализующего в той или иной мере и форме принцип феноменологического έποχή, исследования религии – к определению ее сущности – и далее к обоснованию личной религиозной позиции и ядра конкретной научно-исследовательской программы[10]. Этот порядок представляется сущностным для философии религии, и то или иное рассуждение может считаться относящимся к этой дисциплине в той мере, в какой этот порядок в нем реализуется или в какой оно вписывается в задаваемый этим порядком контекст.
С этой точки зрения сравнительно легко проводится граница между философией религии и теологией. Теологическое рассуждение всегда так или иначе восходит к предпосылкам, принятым в данной религии. Оно всегда является конфессионально определенным (включая сюда и атеистический выбор мыслителя). Оно систематизирует конкретное вероучение, проясняет высшие ценностные и мировоззренческие структуры жизненного мира представителей определенных религиозных сообществ. Философское рассуждение также может быть конфессионально-определенным, однако оно с необходимостью должно включать в себя рациональное обоснование этой определенности, апеллирующее к тому или иному субстрату общезначимости, будь то «самоочевидная истинность», «феноменологическая очевидность», «здравый смысл» или что-либо иное, полемически преодолевающее альтернативные точки зрения. Если теологическое рассуждение восходит к этой степени общности и обоснованности, оно становится философским, и легко можно видеть, что любая религиозная традиция, достигшая высокого уровня рационализированности (в смысле М. Вебера), обзаводится такого рода философским фундаментом, придающим ей новую степень гибкости, способности приспосабливаться к меняющимся условиям человеческой жизни, оборачивать в свою пользу критические аргументы в свой адрес. Подобного рода философствование, разумеется, не может обойтись без рефлексии относительно религии вообще, т. е. без той или иной философии религии[11]. Несмотря на возможность такого рода переходов и превращений, указанное стремление к беспредпосылочности представляет собой, на мой взгляд, достаточно четкий формальный критерий, позволяющий различать философские и теологические рассуждения.
Сложнее обстоит дело с различением философии религии и научного религиоведения. Как и в предыдущем случае, мы постоянно имеем дело с переходами от одного рода рассуждений к другому. Как и там, переход от научного рассуждения к философскому происходит через рефлексию относительно исходных предпосылок, а от философского к научному – через конкретизацию общих мест, применение и проверку достигнутых теоретических результатов на конкретном фактическом материале. Однако мне представляется, что задать здесь столь же четкий формальный критерий их различения вряд ли возможно. Любая попытка ученого дать общезначимое обоснование своего подхода неизбежно приводит его к философской рефлексии, и, наоборот, попытка философа применить или проверить свои идеи вводит его в сферу науки. Одно плавно перетекает в другое и при попытке провести четкую грань неизбежен известный момент произвольности и необоснованности. Скорее следует говорить о философской или научной значимости тех или иных исследований и их результатов, в том смысле что вести дальнейшую разработку той или иной (научной или философской) темы оказывается невозможным без учета работ именно этих, а не иных мыслителей и ученых. Разумеется, исследования более общего характера, более высокой степени теоретичности будут чаще относиться к сфере философии, а более конкретные и эмпирические – к сфере науки[12].
Таким образом, философия религии постоянно балансирует на грани превращения в теологию или в частное научное направление. Ей удается сохранить свою идентичность постольку, поскольку она стремится к максимальной общезначимости и обобщенности своих результатов, обоснованно реализует присущий ей нормативный элемент. В то же время именно эти качества позволяют ей наилучшим образом выполнять свои внешние по отношению к чистой философии функции: религиозной или атеистической апологетики и обоснования теологического и религиоведческого знания. В предлагаемой работе делается попытка проследить, как эти процессы происходили в русской метафизике XIX–XX вв.
1
См.: Шохин В.К. Исторический генезис философии религии: проблема и ее наиболее вероятное решение // Философия религии: Альманах 2006–2007. М., 2007. С. 15–89.
2
См.: Кимелев Ю.А. Философия религии: систематический очерк. М., 1998; Аринин Е.И. Философия религии. Принципы сущностного анализа. Архангельск, 1998; Копцева Н.П. Философия религии. Красноярск, 1999; Красников А. Н., Гаврилина Л. М., Элбакян Е.С. Проблемы философии религии и религиоведения. Калининград, 2003; Гараджа В. И., Митрохин Л.Н. Философия религии // Философия: Энциклопедический словарь / Ред. А. А. Ивин. М., 2004. С. 927–929; Пивоваров Д.В. Философия религии. Екатеринбург, 2006.
3
См., напр.: Hick J.H. Philosophy of Religion. 4th ed. Claremont, California, 1990; Davies B. An Introduction to the Philosophy of Religion. 3rd ed. Oxford, 2004 и др.
4
Шохин. Исторический генезис… С. 64.
5
Кимелев. Философия религии… С. 7.
6
Там же. С. 9.
7
Там же. С. 12.
8
Ср. у Кимелева: Философия религии – «экспликация, исследование и осмысление религиозного отношения в многообразии его проявлений» (Там же). Аналогично и западные исследователи определяют ее как «критическую рефлексию на религиозные верования». См.: Evans S. C. Philosophy of Religion: Thinking about Faith (Counters of Christian Philosophy). Illinois, 1985. P. 11.
9
Он, однако, не может сосредоточить свое внимание исключительно на «когнитивном потенциале… религиозного отношения» (Кимелев. Там же), поскольку этот вопрос слишком тесно связан со всеми остальными: вопросом о сущностной структуре этого отношения и многообразии его возможных проявлений, его отношении к другим аспектам человеческого существования и т. д. – и не может быть решен отдельно от них.
10
Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Рациональная реконструкция истории науки / Ред. Б. С. Грязнов, В. Н. Садовский. Благовещенск, 1998. С. 17.
11
Это видно уже у Фомы Аквинского, рассуждение которого о религии в «Сумме теологии», (II–II, 80–100), даже строгий Шохин относит к предыстории философии религии (Шохин. Исторический генезис… С. 68–71). Аналогичный подход мы находим и в современном неотомизме у Бернара Лонергана, центральное философское произведение которого, «Метод в богословии», также включает большое рассуждение о природе религии вообще (см.: Lonergan B. Method in Theology. N.-Y., 1972. P. 101–124; а также: Красников А. Н. Методология современного неотомизма. М., 1993. С. 53). Некоторые исследователи предпочитают в связи со средневековой схоластикой и подобными явлениями говорить не о философии, но о дотеологическом обосновании теологии, что, однако, представляется весьма сомнительным: если в некотором рассуждении, обосновывающем теологическое, налицо стремление к предельному обоснованию, нет причин отказывать ему в статусе философского рассуждения, если же таковое стремление отсутствует – оно естественным образом остается в сфере теологии, и тогда остается неясным, какое значение вкладывается в термин «дотеологическое».
12
В связи с этим представляется невозможным принять позицию тех религиоведов, которые хотели бы вообще разорвать какую бы то ни было связь между этими дисциплинами, заменив философию религии неким «теоретическим религиоведением». Теоретическое религиоведение действительно имеет свое место в системе знания о религии, однако оно не может заменить философского анализа и при устранении философии религии неизбежно само будет осуществлять ее функции, только менее осознанно и вне контекста философской традиции. В дальнейшем, при анализе русской мысли, мы увидим (напр., у кн. С. Н. Трубецкого), как оно необходимо возникает тогда, когда общие результаты философии религии начинают выполнять свою роль «ядра» конкретной научно-исследовательской программы. См. на эту тему: Цви Вербловски Р.И. О сравнительном изучении религии. Наивные размышления простодушного нефилософа // Религиоведение. 2006. № 2; Узланер Д.А. Цви Вербловски: нуждается ли наука о религии в философии религии // Религиоведение. 2006. № 2. С. 147–152; Писманник М.Г. Религиоведческие размышления // Религиоведение. 2006. № 3. С. 189–199.