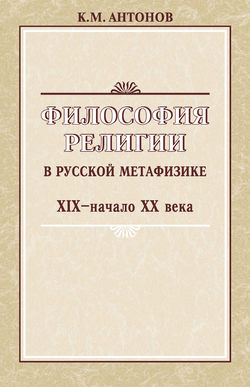Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Истоки и предтечи: становление философии религии и ее развитие в русской философии середины XIX в.
Философия религии в русской мысли середины XIX века
П. Я. Чаадаев
ОглавлениеПри рассмотрении философии религии Чаадаева я буду опираться главным образом на текст «Философических писем», где необходимо корректируя изложение отрывками и данными переписки[71].
Прежде всего следует отметить, что Чаадаев специально обосновывает необходимость философского рассмотрения религиозной проблематики, указывая на недостаточность и даже некоторую принципиальную ущербность чисто богословского ее рассмотрения. Так в письме княгине Мещерской он пишет: «Я, благодарение Богу, не богослов, не законник, а просто христианский философ…» Путь богослова и законника – путь через букву Писания, через текст. Этот путь «наиболее извилистый и наиболее длинный». Текст, по Чаадаеву, – «прибежище религиозной гордыни». В противоположность этому путь философа – «это путь хорошо дисциплинированного разума, руководимого ясной верою и свободного от всякого корыстного чувства»[72]. Философ отличается от богослова тем, что ставит вопросы беспредпосылочно, по существу, свободно от всякой конфессионально-политической ангажированности, вместо того чтобы закапываться в ненужных мелочах и начетничестве[73]. Ошибка нефилософов, с его точки зрения, состоит в том, что они полагают, «что вера и разум не имеют между собою ничего общего». Этот взгляд, по Чаадаеву, противоречит и Писанию, и преданию и восходит к XVIII в., установившему раскол между религией и наукой. Задача религиозной философии – центрального, с его точки зрения, философского проекта XIX в. – преодоление этого раскола[74]. С этой целью она должна установить основные антропологические, онтологические и гносеологические условия возможности и необходимости религиозной традиции и откровения, т. е. стать именно философией религии. Таково, в общих чертах, самопонимание Чаадаева, его замысел. Этим замыслом закладывается основа и религиозной философии как некоторого направления и стиля философского мышления, и философии религии как философской дисциплины, разработка которой является необходимым и существенным моментом в становлении и самообосновании этого направления.
Но обратимся к основным моментам реализации указанного замысла. Самое общее определение религии, по Чаадаеву, есть то, что она суть традиция, т. е. передача из поколения в поколение «первоначальных наставлений, преподанных человеку самим Создателем в тот день, когда Он его творил Своими руками»[75]. В основе религиозной традиции лежит, таким образом, откровение, причем это первоначальное откровение Чаадаев отличает от исторических откровений Ветхого и Нового Заветов[76].
Это откровение не просто постулируется Чаадаевым как некоторый факт. Значительная часть текста «Философических писем» посвящена обоснованию необходимости его признания. Жизнь нашего сознания складывается, по Чаадаеву, из взаимодействия двух сил: нашей собственной свободы, свободной деятельности по осознанию идей, которую мы сознаем ясно, и некоей смутно, но также с необходимостью сознаваемой внешней силы, дающей толчок нашей собственной деятельности и с необходимостью ей предшествующей. Однако обыденное сознание отдает себе отчет только в первой. Будучи реально включенным в жизнь и многообразные связи мирового сознания, оно «проникнуто своей собственной обособляющей идеей, личным началом, разобщающим его от всего окружающего и затуманивающим в его глазах все предметы»[77]. В результате, как обыденный, так и философский разум неизбежно «заключен в некий роковой круг»: «…он сначала предписывает сам себе закон, а затем начинает ему подчиняться»[78], сознавая (на вершинах философской мысли) свою недостаточность, он пытается перестроить себя по некоему идеальному образцу, однако этот образец он вынужден искать в самом себе. К тому же, присущее разуму сознание свободы позволяет ему ставить под сомнение или отвергать любой подобный закон или образец. Но это именно и значит, что разум не может дать закона самому себе[79]. Тем самым устанавливается необходимость толчка, который извлекает его из этого круга. Этот толчок может приходить только извне, т. е. быть откровением.
Проблема заключается в том, что философский разум, подобно обыденному, редко доходит до признания этой необходимости, до осознания своей принципиальной оторванности и искаженности, иными словами, до идеи первородного греха. К этому сознанию он приходит только в результате некоторого опыта, размыкающего его отдельность и приобщающего к новой всеобъемлющей реальности, к «мощи чистого разума в его изначальной связи с остальным миром»[80]. В этом опыте ценой совершенной подчиненности, отказа от своей воли, размыкаются границы пространства и времени, преодолевается эгоистическое обособление от других, осуществляется «конечное предназначение духа в мире»[81]. Тем самым понятие откровения у Чаадаева оказывается двойственным: это не только сообщение Богом человеку некоторых истин. Само восприятие этого сообщения как откровения оказывается возможным лишь благодаря опыту размыкания замкнутости, восприятия иной реальности и переживания иной формы жизни сознания. Именно это приводит Чаадаева к мысли, о которой уже было сказано выше: к мысли об откровении как первоначальном факте человеческого существования вообще.
Это первоначальное откровение в жизни сознания играет роль, аналогичную роли первотолчка в жизни физической Вселенной. В нем Бог передает человеку определенный набор идей, «сообщающих разуму свойственное ему движение»[82]. В дальнейшем эти идеи выступают в роли своеобразного a priori, делающего возможным всякое познание и всякое общение, обусловливающих вообще возможность жизни сознания. Своеобразие этого a priori заключается в его социальном характере: оно не есть природная принадлежность отдельного индивидуального сознания, но передается ему разнообразными путями в процессе социализации, которая оказывается тем самым и личным откровением Бога, обращенным к каждому человеку: «Это именно Бог постоянно обращается к человеку через посредство ему подобных»[83].
Работа философии в этом направлении состоит в том, чтобы усматривать и описывать многообразные пути, связующие индивидуальное сознание одного человека в неразрывное единство с сознаниями других людей. Этот мир соприкасающихся сознаний образует своего рода единую атмосферу, которую Чаадаев называет «мировым сознанием». Знания, культурные умения и навыки, ценности, убеждения, идеи распространяются в нем весьма многообразными и часто таинственными путями, порой напоминающими известный физический опыт с передачей движения по шарикам. Эта передача осуществляется через науку, историю, философию, но также и незаметным образом через бесчисленное множество элементарных бытовых традиций: «…их сообщают сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая ласка отца»[84]. Той же цели служат и собственно религиозные традиции с их символами, образами, культом, специфической организацией образа жизни, аскетическими и экстатическими практиками. Словесное общение есть наверное самый широкий из этих путей, но далеко не единственный[85]. Тем самым вскрывается историческое измерение сознания: эти пути суть вместе с тем пути распространения идей и мыслей, движущих человеческой историей.
Итак, в основе истории лежат события религиозного порядка (первоначальное откровение, грехопадение, пришествие Спасителя), а ход истории определяется взаимодействием передающихся в традициях религиозных идей. В ее начале мы видим существенную двойственность, определяющую и двойственность всего процесса. С одной стороны, поступательное движение истории задается «традицией первоначальных внушений Бога»[86], осуществляющейся в истории Израиля и главным образом в истории Церкви. Христианская культура торжествует в мире именно потому, что ею руководят «интересы мысли и души»[87]. С другой стороны, этот процесс тормозится противоположной культурной силой, «антитрадицией», охватившей весь языческий мир. Здесь «вся умственная работа, как бы она ни была замечательна… служила и служит одной лишь телесной природе человека»[88].
Однако победа христианской культуры не вызывает у Чаадаева никаких сомнений. Следующим шагом истории должно стать осознание не только нравственного, но и философского значения христианства, преодоление протестантского (и, как мы видели, богословского вообще) буквализма в понимании Писания. Это освобождение и самоосознание христианского разума должно вести к преобразованию не только мышления, но и всего строя человеческого существования. Через раскрытую свыше идею «совершается великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу… осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль Самого Бога». Так наступает «последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалиптический синтез»[89]. Чаадаев не употребляет здесь слово «Богочеловечество», однако его представление о конце истории практически совпадает с представлением Соловьева. Завершение истории мыслится здесь как установление совершенной религии, и этой религией оказывается философски осмысленное христианство.
Следует обратить внимание на распространенность этого представления в русской мысли и XIX и XX вв. Как у Н. Ф. Федорова, Вл. Соловьева, кн. С. Н. Трубецкого (следует особо отметить, что творчество Чаадаева в его целом оставалось им, по-видимому, неизвестным), так и далее мы обнаружим в той или иной форме идею конца истории не как катастрофы, но как логического завершения исторического процесса, установления «царства Божия на земле». Не вдаваясь в догматическую или философскую критику этого представления (к тому же разные мыслители предлагают разную его интерпретацию), отметим лишь, что такая распространенность свидетельствует о наличии существенной интеллектуальной и духовной потребности, которой оно, по-видимому, отвечало.
Таким образом, П. Я. Чаадаев впервые намечает целый ряд идей и подходов, ставших впоследствии для русской философии религии весьма характерными. Он занимает весьма критическую позицию по отношению к академическому богословию. У Чаадаева философия религии рассматривает религиозное отношение не только в плане сущего, но и в плане должного. Предлагая религиозное и телеологическое понимание истории, он вместе с тем намечает и определенную логику и телеологию истории религии. Существенно также, что он предлагает весьма своеобразную интерпретацию таких основополагающих для русской философии религии понятий, как религиозная традиция и откровение. В сложном взаимодействии с мыслью Чаадаева происходило становление философии религии славянофилов, прежде всего И. В. Киреевского и А. С. Хомякова.
71
К сожалению, исследователей до сих пор зачастую больше привлекает публицистический запал первого философического письма (одни рассматривают его с точки зрения патриотической, другие – с гражданско-правовой), чем философское содержание последующих. Сюда же относится и диссертация: Каштанова Н.А. Мировоззрение П. Я. Чаадаева: историко-философское содержание и динамика: Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. Екатеринбург, 2005. Ряд аспектов философии религии Чаадаева рассматривался в свое время в работах: Гершензон М.О. П. Я. Чаадаев. М., 1908; Зеньковский. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. С. 161–184; Тарасов Б.Н. П. Я. Чаадаев. М., 1990; Он же. Неуслышанный Чаадаев. Непрочитанный Достоевский. М., 1996; Смирнова З.Н. Проблема разума в философской концепции Чаадаева // Вопросы философии. 1998. № 11. С. 91–101.
72
Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 135.
73
Подобная конфронтация с богословием была характерна для русской философии XIX–XX вв., в том числе и для религиозного ее направления. С жесткой критикой современного им богословия выступали И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, о. П. Флоренский, М. А. Новоселов, Н. А. Бердяев и др. С большой долей скептицизма относился к самой возможности наукообразного богословия С. Л. Франк. Эта критика оказалась потенциально продуктивной для самого богословия: она привела о. Г. Флоровского и других русских богословов XX в. к разработке концепций «западного пленения» православного богословия и «неопатристического синтеза». Особенность Чаадаева состоит в тотальности его отрицания – возможности богословия иного стиля, чем существующее, он в принципе не видит.
74
См. его письма к Шеллингу и кн. Мещерской: Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 2. М., 1991. С. 75–78, 134–137. З. Н. Смирнова справедливо предлагает рассматривать эти идеи Чаадаева в контексте «религиозного ренессанса к. XVIII – нач. XIX века», аналогичного более известному ренессансу начала XX в., в частности, в контексте идей французских традиционалистов (Смирнова. Проблема разума… С. 99). В то же время не следует забывать, что, как свидетельствуют указанные письма, Чаадаев в 1820-е гг. именно Шеллинга рассматривал как центральную фигуру всего этого движения.
75
Чаадаев. Указ. соч. Т. 1. С. 353, (ср. с. 384).
76
Там же. С. 352.
77
Там же. С. 361. Здесь уместно вспомнить Гераклита.
78
Там же. С. 379.
79
Чаадаев. Указ. соч. 350–351, 377.
80
Там же. С. 361.
81
Там же. С. 363.
82
Там же. С. 389.
83
Там же. С. 385.
84
Чаадаев. Указ. соч. С. 383.
85
Там же. 381–383.
86
Там же. С. 391.
87
Там же. С. 409.
88
Там же. С. 408.
89
Чаадаев. Указ. соч. С. 440.