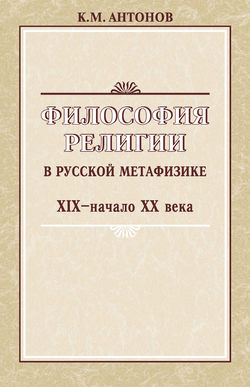Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Истоки и предтечи: становление философии религии и ее развитие в русской философии середины XIX в.
Философия религии Ю. Ф. Самарина
Полемика с М. Мюллером
ОглавлениеВ 1870-е гг. Самарин противопоставляет этому рационализму своеобразный эмпиризм, заменяющий создание априорных конструкций исследованием и интерпретацией фактов жизни религиозного сознания. К этому периоду относятся два основных текста: «Замечания на книгу К. Д. Кавелина “Задачи психологии”» (1872–1875), где речь идет прежде всего о понимании человека, о проблемах предмета и метода психологии, и «Замечания по поводу сочинения М. Мюллера по истории религии» (1876). Я остановлюсь, главным образом, на последнем тексте, прибегая к первому лишь там, где будет возникать необходимость прояснения мысли Самарина.
Огромной заслугой М. Мюллера, причем заслугой не только научного, но и нравственного порядка, Самарин считает учение об «участии языка, как самостоятельного агента, в образовании религиозных воззрений». Тем самым создается возможность для преодоления разделяющей функции языка, освобождения «чистого понятия от оков, которые налагает на него язык, для обретения общей почвы, на которой люди смогут прийти «к сознанию своего духовного единства в сознании и чувствовании»[212].
Тем не менее, полагает Самарин, в самой основе воззрений Мюллера кроется существенная недоговоренность. Основной, с точки зрения русского мыслителя, вопрос философии религии не только не решается Мюллером, но и не ставится им: «Этимологически религия значит то же, что союз или общение, здесь очевидно между человеком и чем-то другим[213]. Что же однако это другое? Существо ли это, имеющее бытие само по себе и для себя (признает ли его человек, или не признает, или даже отрицает – все равно), или это только понятие, другими словами: продукт человеческой способности отвлекать всеобщее и идеальное от всего отдельного, конечного, случайного и несовершенного?»[214]
Этот вопрос дает нам возможность лучше увидеть контекст возникновения философии религии Самарина. Русский мыслитель ставит его явно полемически, причем действительным объектом полемики выступает отнюдь не Мюллер. Собственно, неопределенность мысли Мюллера не устраивает Самарина именно потому, что фактически (возможно, против собственной воли и личного убеждения немецкого ученого) приводит его к поддержке той формы редукционизма в философии религии, которая была предложена Фейербахом и затем нашла мощную поддержку у тех уже упоминавшихся русских мыслителей, с которыми Самарина связывали парадоксальные отношения личной дружбы и жесткой идейной и политической полемики. Это, прежде всего, А. И. Герцен и М. А. Бакунин, а также К. Д. Кавелин, безуспешно пытавшийся занять примирительную позицию. В их редукционизме, объявлявшем Бога «абсолютной абстракцией, собственным продуктом человеческой мысли»[215], а религию – исторически необходимым заблуждением, «неизбежным злом»[216], Самарин усматривал конечный пункт развития западного рационализма и наиболее значительное интеллектуальное движение, направленное против христианства. Самарин совершенно сознательно стремится к преодолению этой позиции, и его аргументация оказывается весьма последовательной, изящной и, на мой взгляд, убедительной.
Прежде всего, он обосновывает необходимость самой постановки данного вопроса. Проблема не в том, что Мюллер не сделал его своей главной темой. Проблема в том, что он занялся исследованием лингвистической стороны религиозной мысли, не решив, кто же является ее подлинным субъектом: только человек или человек и открывающееся ему другое? Из сказанного Мюллером «могут быть выведены оба противоположные воззрения» – читатель, таким образом, получает право быть неудовлетворенным.
По видимости, критика немецким ученым редукционизма гегельянского и фейербаховского толка, его полемика с Ренаном «указывают на признание Бога как самого по себе и для себя сущего существа». Однако общая концептуальная схема истории религии, по Мюллеру, не оставляет места для активности Бога: «Он понимает ее (историю религии. – К.А.) как продукт одного только деятельного агента, именно человеческого духа, неудержимо стремящегося к Богу… Бог кажется объектом, предносящимся перед человеческим движением к нему и более ничем…»[217] История религий, по Мюллеру, «изображает нам не диалог между человеком и Богом, а монолог человека, в котором он сам старается уяснить себе, что он, собственно, должен думать о Боге»[218]. Тем самым, неявной предпосылкой философии религии М. Мюллера оказывается «атеистическое исповедание»: допускать существование Бога и отрицать Его активное участие в истории религии значит вносить противоречие в само понятие о Боге: «Бог, который не хотел бы знать о стремлении человека к Нему, или не желал бы известить о Себе свое создание, ищущее его, совершенно немыслим, и не только иллогичен, но и антилогичен». Это противоречие проистекает, по Самарину, из «неопределенности его основного воззрения на психологическое происхождение всех начальных религиозных стремлений»[219].
Суть указанной неопределенности в воззрениях М. Мюллера Самарин усматривает в его учении об основе религии. Эту основу немецкий мыслитель усматривает в особой «способности ума, которая независимо от разума и даже наперекор ему дает возможность исследовать бесконечное»[220]. Человек изначально, «независимо от всех исторических религий», обладает «способностью верить», т. е. вступать в некоторое отношение к бесконечному.
Для Самарина это означает, что понятие бесконечности оказывается первоначальной формой или зародышем понятия о Боге[221]. Но именно это отождествление, с его точки зрения, совершенно ошибочно: «Оба эти понятия, по содержанию, хотя друг другу и не противоречат, однако существенно между собою различны, а по происхождению… ничего общего между собою не имеют, так что никакой логический переход от первого ко второму немыслим, следовательно, и не мог иметь места в историческом развитии»[222]. Для подтверждения этой мысли русский философ предлагает исследовать оба понятия.
Как возникает понятие бесконечности и каково его содержание? Самарин полагает, что «до понятия бесконечности или до произнесения этого слова человека доводит просто то, что он свою собственную личность и все явления природы понимает как конечное, определенное бытие. Тем самым уже, как граница определенного бытия и как лишенная всякого содержания противоположность ему, полагается и бесконечное». Собственно, на этом процесс должен был бы и закончиться, поскольку из этого совершенно бессодержательного понятия невозможно никакое дальнейшее движение мысли, бесконечности невозможно молиться и поклоняться по той простой причине, что между абстрактным понятием и живым существом «нельзя ни мыслью представить, ни почувствовать никакого отношения»[223].
В самом деле, для того чтобы из полученного путем абстракции понятия бесконечности вывести идею Бога, мыслители, шедшие по этому пути (например, такие русские последователи Фейербаха, как М. А. Бакунин), постулировали дополнительный акт «религиозной фантазии»[224], в котором чисто отрицательная сама по себе бесконечность наделялась всеми положительными атрибутами божества. Самарин весьма убедительно демонстрирует сомнительность самой возможности такого акта и предлагает радикально иной путь возникновения понятия Бога.
Возникновение этого понятия для него вообще не является результатом мышления – оно возникает в результате восприятия. Тем самым Самарин предлагает покинуть область абстракции и обратиться к опыту. Потребность в этом возникает при попытке непредвзято раскрыть содержание понятия «Бог». В нем «заключается признание, что бесконечное дает о себе знать человеческому сознанию, следовательно в области конечного, тем или другим образом, как личность»[225].
«Личность» – означает здесь бесконечную реальность, обращенную к каждому человеку[226]: «Он есть каждого человека знающая, на каждого свободно воздействующая бесконечность и всемогущество; Его око открыто для каждого человека и ухо отверсто для каждого стремления к нему; Он говорит человеку, руководит и предостерегает его, призывает, судит и спасает»[227]. Содержанием идеи Бога, таким образом, оказывается «положительный факт», сознаваемый через восприятие, «до признания которого человек доходит исключительно путем личного опыта». Факт – воздействие Бога на человеческую реальность, опыт – восприятие этого воздействия[228]. Пафос, с которым говорит здесь Самарин, указывает на то, что этим опытом он, похоже, обладал.
Следом естественным образом возникает вопрос о реальности данного опыта. Однако, поскольку речь, согласно Самарину, идет о факте, требование доказательства применимо здесь в весьма ограниченной мере. «Доказательства» бытия Божия в строго логическом смысле слова просто не может быть, поскольку в этом смысле «доказуема только возможность факта, а отнюдь не реальность его». Мы можем только показать, что возможность данного факта не заключает в себе логического противоречия, что она не неразумна, что факт «не невозможен». Только на основе личного опыта данный конкретный человек может в глубине совести решить вопрос: «Этот факт есть ли действительность и истина, или призрак и ложь?»[229]
Здесь, однако, возникает возможность противопоставления веры и разума, чего, по-видимому, Самарин хотел бы избежать. Поэтому он ставит вопрос таким образом: «Мыслимо ли вообще между конечным существом (человеком) и бесконечным такое отношение, при котором доступное первому восприятие последнего само по себе представляло бы совершенное ручательство в том, что воспринятое не есть обман, а отражается в сознании вполне истинно?»[230] Самарин, естественно, полагает, что да, и для обоснования своего ответа прибегает к некоторым общим соображениям о том, как происходит человеческое познание. Приведу их вкратце.
Источник самой возможности ошибки в восприятии и мышлении русский мыслитель усматривает в наличии между объектом познания и познающим «я» человека неустранимого посредника в виде органов чувств и способности умозаключения. Они живут по своим собственным, не зависящим от нашей воли законам и, следовательно, «могут видоизменять объективно-фактическое и доводить до восприятия мнимо-фактическое»[231], причем так, что человек не будет иметь возможности устранить и даже заметить свою ошибку. Кроме того, большинство объектов нашего познания либо совершенно равнодушны к его результатам (природа), либо в значительной мере бессильны на них повлиять (другие люди). Итак, несомненное восприятие должно удовлетворять условию непосредственности (т. е. исключать как чувственное, так и логическое опосредование), а последняя в свою очередь возможна при двух условиях:
«Во-первых, то, что подлежит нашему восприятию, должно быть в состоянии прозирать (т. е. прослеживать. – К.А.) в человеческом сознании весь процесс восприятия; во-вторых, необходимо, чтобы этот объект не только хотел, но и мог вызвать в человеке восприятие, соответствующее его воле, – иначе сказать, необходимо, чтобы он (объект) его (человека) сотворил». Ясно, что единственным объектом, удовлетворяющим этому условию, может быть только Бог, что заключается уже в самом понятии о Нем. Самарин особенно настаивает на недоказуемости этого факта, с одной стороны, и на его логической возможности, его непротиворечивости – с другой.
Этот ход мысли приводит его затем к идее личного откровения. Собственно, уже ясно, что то, что с позиции человека предстает как восприятие воздействия Божества, Его вхождения в человеческую жизнь, с позиции Самого Божества оказывается не чем иным, как действием, направленным на данного человека, словом, обращенным к нему, т. е. откровением. Это описание оставалось бы, однако, слишком общим и не производило бы должного впечатления, если бы мы не могли найти у Самарина более конкретных психологических и исторических пояснений относительно того, какие именно события человеческой жизни под него подходят. В разбираемой работе он указывает на «непроизвольные движения совести и на мнимо-случайные события», т. е. такие, по-видимому, которые непосредственно воспринимаются как раз как неслучайные, и лишь post factum, при наличии желания и особым умозаключением (т. е. предвзято), могут быть переведены в разряд случайных.
В замечаниях на книгу Кавелина мы найдем дополнительные пояснения. Идея личного откровения формулируется здесь следующим образом: «Воля Творца и Промыслителя знаменуется в жизни каждого субъекта; она непременно вернее, чем действие на него материальной среды, доходит до его сознания, навязывается ему, и человеку остается только последовать его призыву или сознательно и намеренно уклониться от него»[232]. С этой идеей тесно связана у него идея промысла, которой «предполагается, что существует разумное отношение и правильная соразмерность между двумя факторами, из которых слагается жизнь каждого субъекта, между свободною деятельностью, исходящею от самого человека, и воздействием на него извне обстоятельств ему неподвластных, между искушениями, которым он подвергается, и правоправящею силою, данною ему для отпора». Вместе они формируют то отношение к жизни, которое может быть названо религиозным: «Одно и то же событие, независимо от общего своего значения в истории целого народа или всего человечества, вплетается в судьбу каждого субъекта, которого оно задевает, не как случайность, расстроивающая ее, а как слово, прямо к нему обращенное, имеющее свой особенный смысл для него лично»[233].
Самарин называет здесь учение о промысле «предположением», т. е. дает повод рассматривать его как интеллектуальную (хотя и необязательно формулируемую и сознаваемую) предпосылку религиозного восприятия мира, которое возникает в том случае, если субъект эту предпосылку принимает. В действительности, однако, он скорее хочет сказать, что тот личный опыт субъекта, который может быть обобщен (и обобщается в теологии) в учении о промысле, и личное откровение, и есть то первичное религиозное восприятие, над которым надстраиваются затем здания тех или иных «положительных религий» и теологий.
Итак, minimum религии, по Самарину, есть, как уже говорилось, «личное восприятие сознательного и преднамеренного воздействия Бога на человеческую жизнь». Это воздействие, как факт, не менее достоверно, чем воздействие внешнего, физического мира. Оно переживается человеком в совести, в мнимо-случайных событиях, в личной вовлеченности в историю. Эти (а возможно, что и какие-то другие) переживания дают человеку возможность «испытать в сокровеннейшей глубине своей собственной индивидуальности ощущение присутствия Божия». Это и есть первоначальная форма откровения – откровение личное, религиозный опыт. Этот опыт, по Самарину, «необходимо предполагается всеми дальнейшими историческими откровениями», т. е. практически всей историей религии.
На этом, собственно, Самарин и останавливается, вполне сознательно отказываясь от дальнейшего развертывания своей мысли, от перевода ее в дальнейшую историческую конкретику. Перспективы, которые открываются с этой точки, достаточно заманчивы и многообразны. Непосредственно эти идеи Самарина оказали определяющее влияние на рассмотрение религиозной проблематики в русской философии. Опытное происхождение идеи Бога составило центр философии религии В. Д. Кудрявцева-Платонова (1828–1891), выдающегося представителя философии духовных академий в России. Именно В. Д. Кудрявцев осуществил перевод рассмотренных только что писем Самарина на русский язык и опубликовал их отдельным изданием. Этот факт интересен как довольно редкий пример пересечения и взаимодействия двух направлений русской религиозной мысли: «интеллигентского» и «духовно-академического»[234]. Идея «личного откровения» и принцип богочеловеческого диалога легли в основу реконструкции структуры религиозного сознания и религиозного процесса в его истории у В. С. Соловьева, кн. С.Н. и Е. Н. Трубецких, Л. П. Карсавина, А. А. Мейера и других русских мыслителей.
Наконец, возможно было движение и в сторону более детального описания элементов и сущностных черт самого религиозного опыта – путь, по которому пошли позже Р. Отто (нет нужды говорить, что без всякой связи с Самариным) и С. Л. Франк. Собственно историческое значение работы, проделанной Ю. Ф. Самариным, состоит как раз в том, что она привела русскую мысль к точке, с которой открывались все эти перспективы.
Сам Самарин в последнем, третьем письме наметил три связанные с предыдущим изложением вопроса из области философии религии, прояснить которые он считал важным для себя, прежде той или иной попытки продолжить развитие основной мысли. Остановимся на них по необходимости кратко.
Выше уже говорилось, что Самарин ставит человека, переживающего религиозный опыт перед неким, говоря словами Кьеркегора, entweder – oder: человек может либо признать присутствие Божие в своей жизни, либо его отвергнуть и настаивать на иллюзорном характере своего опыта. Однако, полагает Самарин, желательно было бы ему отдавать себе отчет в практических и интеллектуальных последствиях этого выбора: «…от чего человек логически и в действительности отказывается, как скоро он отрешается от Бога»[235].
В это множество, согласно Самарину, попадает прежде всего представление об особом месте человеческой личности в мироздании, сознание личной свободы, долга и ответственности. Иными словами, отрешаясь от религиозного фундамента, «этика… вместе с тем отказывается от своего собственного логического оправдания и впадает в неразрешимое противоречие со своими собственными требованиями»[236].
Речь, естественно, не идет о том пошлом утверждении, что атеист не может быть нравственным человеком. Как раз наоборот, Самарин утверждает, что против данного мнения можно привести целый ряд неопровержимых фактов, в том числе, наличие среди атеистов людей, «перед которыми я должен был в душе глубоко преклониться, которые в царствии Божием будут стоять неизмеримо выше, чем многие… епископы, монахи и князья»[237]. Речь идет о том, что нравственное сознание предъявляет человеку известные требования, покрываемые понятием «долга», и что эти требования не могут быть обоснованы иначе как религиозно. Без этого они становятся лишенным основания «обычаем, преданием, привычкой, личным настроением», которое рано или поздно будет отвергнуто[238]. Основная проблема атеистической нравственности, с его точки зрения, – проблема трансляции этических ценностей перед лицом очевидного кризиса их оснований[239].
Второй важной проблемой Самарин считает вопрос о возможности соединения веры со свободным научным исследованием. Из сказанного ясно, что, поскольку вера для Самарина есть результат свободного акта выбора, «достигшее высшей потенции убеждение», «мнение, будто религиозная вера тождественна с рабским подчинением внешнему авторитету»[240], – для него не более чем укоренившийся предрассудок, что он и считает необходимым показать.
Третьей насущной задачей Самарин считает исследование понятия чуда, сущность которого он усматривает в признании «фактического, прямого воздействия духовного начала или агента на материю». Отвергнуть этот факт можно, полагает он, только если отрицать «какое бы то ни было самостоятельное духовное начало или свойство» вообще. В случае же признания самой возможности такого рода воздействия остальные проблемы, связанные с чудесами: степень их вероятности, различение истинных и ложных чудес и подобные, – окажутся второстепенными[241].
Подводя наконец общий итог, следует сказать, что философия религии Ю. Ф. Самарина явилась важным этапом становления этой дисциплины в России, по крайней мере, для традиции русской религиозной философии. Из сказанного очевидно, что эта философия религии носит подчеркнуто антиредукционистский характер. Она несомненно апологетична и порождена стремлением философа уяснить самому и объяснить другим сущность религиозного опыта, без посредства тех теологических и антитеологических теорий, которые так склонны выхолащивать его содержание. Отсюда у Ю. Ф. Самарина возникает пафос преодоления накопившихся «в области религиозных вопросов предрассудков (как теологических, так и атеистических, как радикальных, так и консервативных)», пафос стремления к взаимопониманию, беспристрастию и объективности в отношении фактов религиозной жизни[242], который, несомненно, актуален и для нашего времени.
* * *
Подведем итоги первой главы.
Основные принципы и подходы, характерные для русской философии религии, сложились в первой половине и середине XIX в. во взаимодействии основных направлений метафизической мысли: религиозного западничества (П. Я. Чаадаев), славянофильства (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин), философии духовных академий (П. Д. Юркевич), русского атеизма (М. А. Бакунин).
Они складывались во многом благодаря критическому восприятию наследия немецкой классической философии при обозначившемся с самого начала весьма критичном отношении к традиции академического богословствования.
Последнее было во многом связано с ощущением его чрезмерной рационализированности, зависимости от устаревших западных образцов («западное пленение») и неэффективности при решении теоретических, образовательных, миссионерских и культурных задач, в частности, вопроса о религиозном оправдании человеческого творчества.
В результате отказа от присущего академическому богословию способа мышления и изложения материала был поставлен вопрос о предельном обосновании религиозного знания и знания о религии, при апелляции в поисках такого обоснования скорее к анализу и интерпретации данных религиозного опыта, чем к текстам, была начата работа по переосмыслению таких основополагающих понятий, как «вера», «откровение», «традиция», религиозному осмыслению истории, выстраиванию логики истории религии. Важным мотивом развития христианской мысли было стремление вывести христианство из-под огня атеистической критики.
Все это обусловило высокий уровень интереса к проблемам философии религии, осознание их относительной обособленности от собственно богословской проблематики, их особого положения в структуре философского знания.
Непосредственно эти идеи, в особенности в том виде, в каком они были заявлены у Ю. Ф. Самарина, оказали определяющее влияние на рассмотрение религиозной проблематики в русской философии. Концепция опытного происхождения идеи Бога составила центр философии религии В. Д. Кудрявцева-Платонова. Идея «личного откровения» и принцип богочеловеческого диалога легли в основу реконструкции структуры религиозного сознания и религиозного процесса в его истории у В. С. Соловьева, кн. С.Н. и Е. Н. Трубецких, Н. А. Бердяева и других русских мыслителей. По пути более детального описания элементов и сущностных черт самого религиозного опыта пошли, опять-таки вслед за В. С. Соловьевым, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк.
Тем самым оказалась подготовлена почва для более систематического развертывания проблематики философии религии в следующем периоде.
212
Самарин Ю. Ф. Замечания… С. 495. Самарин неслучайно указывает на «нравственное достоинство» труда Мюллера именно в этом отношении: в этих его размышлениях явно сказывается идея о вавилонском «смешении языков» как важнейшем факторе устроения человеческой жизни «после грехопадения», и христианской Пятидесятнице как преодолении этого фактора в рамках Церкви.
213
В немецком тексте «Andere», что, конечно, не может не вызвать у современного религиоведа ассоциации с феноменологией религии Р. Отто (см. напр.: Отто Р. Священное. СПб., 2008. С. 44). Употребленный Самариным курсив означает, что он вполне отдавал себе отчет в том, что это другое является «другим» в совершенно особом смысле слова.
214
Самарин. Замечания… С. 495.
215
Бакунин М. А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 76.
216
Бакунин М. А. Федерализм… С. 83.
217
Самарин Ю.Ф. Замечания… С. 497.
218
Там же.
219
Там же. С. 499.
220
Мюллер М. Религия, как предмет сравнительного изучения. Харьков, 1887. С. 12–13.
221
Самарин Ю. Ф. Замечания… С. 501.
222
Там же.
223
Там же. С. 503.
224
Бакунин М. А. Федерализм… С. 80–81.
225
Самарин Ю. Ф. Замечания… С. 503.
226
Важно отметить здесь тот факт, что свойство личности Ю. Ф. Самарин полагал не сущностным свойством Божества, а «определением его откровения во вне» (Самарин Ю. Ф. Замечания… С. 505), что сближает его с различением Gott и Gottheit у Мейстера Экхарта, известное ему через немецкую мысль, прежде всего Шеллинга и Баадера. Это различение впоследствии прочно войдет в русскую мысль, прежде всего оно характерно для Н. А. Бердяева и С. Л. Франка. Однако у Самарина оно не предполагает никакой нарочитой неортодоксальности: просто понятие «личность» приложимо к Богу постольку, поскольку Он обращается к человеку, открывает ему Себя, однако внутренняя, собственная реальность Бога с его помощью вряд ли может быть описана (в богословском отношении, это предполагает, что Ю. Ф. Самарин не считал тождественными греч. ΰποστασις и наше «личность»).
227
Самарин Ю. Ф. Замечания… С. 505.
228
Самарин неоднократно указывает на то, что личный опыт есть «общая почва религии и естественных наук», с той разницей, что в первом случае речь идет о восприятии явлений духовного мира, а во втором – материального. С его точки зрения, беспристрастное рассмотрение должно показать примерно одинаковую степень достоверности воспринимаемых в обоих случаях фактов.
229
Самарин Ю. Ф. Замечания… С. 510–511.
230
Самарин Ю. Ф. Замечания… С. 511.
231
Там же. С. 513.
232
Самарин Ю. Ф. Замечания на книгу К. Д. Кавелина «Задачи психологии» // Соч. Т. VI. С. 414.
233
Там же. С. 410–411. Наиболее яркий пример такого переживания исторических событий в литературе – роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». Вообще, восприятие текущей истории, как слова Божия, обращенного к человеку, должно считаться одним из основополагающих аспектов духовного опыта, лежавшего в основе религиозного ренессанса конца XIX – начала XX в. и русской (и не только русской) религиозной философии.
234
См.: Моисеев Е., иером. Московская духовная академия и славянофилы // А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист… С. 361–374.
235
Самарин Ю. Ф. Замечания… С. 521, см. так же С. 507, 421.
236
Там же. С. 517, 519.
237
Там же. С. 519, 521.
238
В этом, по-видимому, следует видеть смысл знаменитого изречения Ф. М. Достоевского: «Если Бога нет, то все дозволено». Вообще, существенная связь антропологии и философии религии (а не только философии истории) славянофилов с художественным мышлением Ф. М. Достоевского, кажется, еще не становилась предметом достаточно основательного изучения. См., впрочем: Котельников В.А. Достоевский и Иван Киреевский // Русская литература. 1981. № 4.
239
Эту проблему Самарин активно обсуждал также и в полемике с К. Д. Кавелиным, и в письме А. И. Герцену (1858), именно поскольку последние пытались соединить позитивизм, подчиняющий человека природной закономерности, и утверждение «нравственной самобытности» (Герцен) человека (см. об этом: Зеньковский. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. С. 95, 151, сл.).
240
Самарин Ю. Ф. Замечания… С. 521.
241
Самарин Ю. Ф. Замечания… С. 523.
242
См.: Там же. С. 517. Вот его позиция: «Обращаться к фактам религиозной жизни так же беспристрастно и объективно, как в настоящее время обращаются в области науки с фактами физиологическими или политическими» (Там же. С. 521).