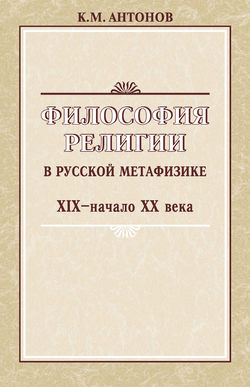Читать книгу Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - К. М. Антонов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Истоки и предтечи: становление философии религии и ее развитие в русской философии середины XIX в.
Истоки и предтечи
ОглавлениеРазработке тем философии религии в русской мысли предшествовала весьма длительная история философской рефлексии относительно религии в европейской философии. Ниже я, по необходимости очень кратко, остановлюсь на тех аспектах этой истории, которые сыграли определяющую роль в становлении философии религии в русской мысли.
Уже в Античности был представлен богатейший спектр идей: от критики религии разной степени радикальности до ее философского оправдания и переосмысления – прежде всего у пифагорейцев, Эмпедокла, а затем у Платона и неоплатоников. Важно подчеркнуть, что во всех этих случаях античные мыслители исходили из определенного рационально сформированного понимания сущности религиозного отношения[37]. В противовес развивающейся секуляризации античной культуры здесь возникает и культивируется не только определенная философия религии, стремящаяся к глубокому пониманию и оправданию своего предмета пред лицом критики, но и сознательно выстраиваемое на ее основе своеобразное философское благочестие, религиозная настроенность души, позволяющая осуществить это понимание. Важно отметить, что зачастую (Гераклит, Ксенофан, Платон) критика философами народной религии велась не с позиций секуляризованного сознания, но, напротив, с точки зрения этого философского благочестия, для которого данная религиозность сама представлялась слишком обмирщенной. Философия религии уже у греков рассматривала свой предмет не только с точки зрения сущего, но и с точки зрения должного. Моделируя идеал религиозного отношения, философы стремились и к осуществлению этого идеала, благодаря чему античная философия смогла выступить как важный фактор развития религиозного сознания.
Русские философы XIX – начала XX в. оказались во многом в сходной ситуации, что предопределило и их постоянный интерес к религиозным аспектам античной мысли, и ту роль, которую сыграло философское наследие античности (прежде всего платонизм) в становлении русской философской традиции. Русские философы воспринимали не только христиански переосмысленные онтологические схемы и отдельные моменты теории знания платонизма, но и его понимание отношений религии и философии, его опыт осмысления феномена религии.
Это должное религиозное отношение, искомое античными философами, отцами и учителями Церкви первых веков, мыслилось данным на деле в лице Иисуса Христа и осуществленным в христианской Церкви. Их философия религии сложилась как синтез библейских (в особенности пророческих) представлений о взаимоотношениях Бога и человека, об истинном Богопочитании, о происхождении и значении языческих культов и античной философии религии, начиная с Ксенофана развившей критику народных верований и религиозных представлений политеизма. Религия для них – прежде всего поклонение, latreia, характером и предметом которого определяется его истинность. При этом в качестве ложных форм рассматриваются не только языческие культы и ереси, но и всякая попытка отождествления Бога с человеческим понятием о Нем, неизбежно порождающая идолопоклонство как ложную форму религиозного отношения. Богословие и философия религии отцов Церкви начинается, таким образом, с радикального апофатизма, цель которого – очищение стремящегося к богопознанию человеческого ума от всех тех понятий, которые он образует, постигая тварное бытие. Утрата и восстановление нормального отношения человека к Богу суть главные опорные точки исторического процесса, а история религии составляет тем самым его основное содержание.
Несмотря на грехопадение, стремление к Богу сохраняется в человеке как определяющая черта его природы. Однако после грехопадения она находит свое превращенное выражение в языческой религиозности, сущность которой: «идолослужение и поклонение твари вместо Творца»[38]. Это «поклонение видимому» существует в различных формах, таких, как культы солнца, луны, звезд, неба, земных стихий, поклонение изображениям предков. Все они, возникнув в конечном счете «из ухищрений лукавого, который самое добро обратил во зло», так или иначе, оправдывают многообразные нравственные пороки (страсти) падшего человека[39].
Одновременно положительный аспект духовной истории человечества осуществляется в стремлении познать Бога «под руководством разума» из «красоты и благоустройства видимого» мира. Этот аспект находит свое выражение в опыте богопознания ветхозаветных праведников, в умозрении греческой философии и предвосхищениях христианства в тех или иных аспектах античных религий[40].
Однако наряду с этими, «человеческими», аспектами религиозной истории в ней наличествует и, с точки зрения св. отцов, играет определяющую роль «Божие домостроительство» – «вразумляющее» и спасающее человека действие Бога в истории, откровение[41]. Среди многообразия этих действий особенно выделяются дарование «Закона и Пророков» – Ветхий Завет, и венчающий все акт Воплощения Слова. В нем совершенный Бог, второе Лицо Троицы, «делается человеком по всему, кроме греха», очищая и восстанавливая человеческую природу в ее первозданности, обоживая ее и восстанавливая прерванную грехопадением «связь» человека и Бога.
Русские философы, по-видимому, достаточно ясно ощущали близость своей исторической ситуации – христианских мыслителей, доказывающих секуляризованному миру свое право на веру и определяемый ею образ жизни, – к ситуации ранних церковных писателей, доказывавших то же самое языческому культурному миру и языческому (или еретичествующему) государству. Отсюда и близость в постановке и решении ряда важнейших проблем и тем философии религии: религия как поклонение, религиозная роль и ценность философии, движущие силы истории религии, ее отношение к истории в целом, оценка античной религиозности. Воспринимались русскими мыслителями и даже играли в творчестве многих из них особую роль и идеи более поздней византийской мысли: прежде всего представителей аскетической письменности и тесно связанного с нею богословия нетварных божественных энергий св. Григория Паламы.
Средние века восприняли идущее от Лактанция и блж. Августина понимание религии как religare[42], восстановления связи человека с Богом. Эта связь реализуется в Церкви, благодаря взаимодействию в ней Божественной благодати и человеческой воли (форма этого взаимодействия могла мыслиться по-разному), посредством осуществляемых иерархией Таинств и личного богообщения. Интеллектуализация религиозной жизни в эпоху схоластики повлекла за собой выдвижение на первый план проблематики, связанной с когнитивным значением религиозного опыта: вопрос о соотношении разума и веры, религии (богословия) и философии, возможности доказательств бытия Божия и т. д. Именно здесь, в творчестве Ансельма Кентерберийского и Фомы Аквинского, закладываются основы ставшей затем классической интерпретации главнейших христианских идей и понятий: веры, откровения, авторитета, догмата, Церкви, так называемой «юридической» теории искупления и т. д. Эта интерпретация легла впоследствии в основу «школьного» или «академического» богословия не только на Западе, но и в России и в качестве таковой была подвергнута в русской мысли радикальной критике и переосмыслению[43].
Отчасти в противодействии этой интерпретации (в аверроизме), отчасти в попытке преодоления этого противодействия (в томизме) тогда же возникает представление об особой, существующей по своим специфическим законам сфере человеческой природы (прежде всего в сфере политики и рациональности), как своего рода «третьего града», наряду с «двумя градами» блж. Августина[44]. Его приложение к религиозной сфере приводит к возникновению концепций «естественной теологии» (уже в Средние века)[45] и «естественной религии» (в эпоху Возрождения и в начале Нового времени; впервые, по-видимому, у Марсилио Фичино как communis religio[46]), использовавшейся в дальнейшем как в целях апологетики христианства (сам Фичино, Лейбниц), так и в целях его более или менее радикальной критики (Бруно, Гоббс, Спиноза, Руссо, Юм).
В целом эта концепция в различных своих вариантах (например, у Спинозы, Лейбница, Юма) остается на протяжении Нового времени доминирующей.
Для русской мысли характерно одновременное возрождение отошедших к тому времени на второй план концепций «естественной религии» и «естественного права» (но не «естественного разума», представлявшейся чересчур схоластичной), активно использовавшихся русскими мыслителями не только для понимания соответствующих реальностей, но и для преодоления секуляризма, для возвращения в философский дискурс христианских тем и идей.
Новый шаг в рационализации представлений о религии делает эпоха Просвещения, сводящая религию в целом к некоторой совокупности истин, в дальнейшем либо принимаемых «на веру», причем это принятие мыслится как условие спасения, либо отвергаемых как «выдумка» (Мелье) или «опий» (Вольтер) во имя разума и положительного знания. С этой точки зрения делаются попытки рационально объяснить феномен религии, выводя его из страха перед явлениями природы, обмана и т. п. Традиционной религии с неизживаемой иррациональностью ее «предрассудков» и «пережитков» противопоставляется просвещенный деизм, культ Разума или Высшего Существа.
Этой тенденции противостоит, с одной стороны, иррационализм (либо в форме философии веры, либо в форме эстетизма) Гамана, Якоби, мистиков, пиетистов, романтиков, а с другой – морализм Канта.
Следует отметить, что почти все эти тенденции уже в XVIII в. были восприняты и в России. Существовали и русское вольтерьянство, и русское вольфианство и философия веры в духе Якоби в духовных академиях, и русское масонство с его высокой мистической культурой[47]. В то же время, начиная, по всей видимости, с Г. С. Сковороды, возникает и постепенно становится доминирующей иная тенденция, направленная на «просвещенный», т. е. рефлексивный, сознательный, пересмотр основополагающих принципов Просвещения, в сфере философии религии оказывающийся крайне критичным как по отношению к одностороннему иррационализму в различных его формах, так и по отношению к просвещенческому редукционизму, включая идею Канта о религии как «расширении» морали[48].
Вообще философия Канта как в целом, так и в особенности в тех ее аспектах, которые имеют непосредственное отношение к философии религии (кроме работы «Религия в пределах только разума» сюда следует отнести и соответствующие места из всех трех «Критик»: проблематизация доказательств бытия Божия, концепция «постулатов практического разума», обсуждение идеи телеологии), воспринималась русскими мыслителями преимущественно критически. Эта критичность, однако, не являлась простым безапелляционным отвержением[49], напротив, она сопровождалась, как правило, признанием значительности обнаруженной Кантом проблематики и достаточно основательным рассмотрением его творчества[50], выявлением и пересмотром его основных предпосылок.
И все же наибольшее значение для формирования русской философии религии имели в рамках немецкой классики идеи Шеллинга и Гегеля. Именно они ввели в европейскую культуру представление о сущностной историчности всех форм культуры и духовной жизни, в том числе и религиозного сознания. Эта историчность означала для них наличие качественных изменений не в религиозном сознании, но самого этого сознания, изменений, определяемых, однако, некоторой логикой, задающей единство всего процесса. С другой стороны, эта историчность сознавалась ими не только как характерное свойство человеческой природы или даже мира в целом. Напротив, историчность мира была для них лишь моментом еще более глобального процесса: истории самого Абсолютного, истории Божества. Тогда история религии, само собой, оказывалась центральным (как у Шеллинга) или одним из важнейших (у Гегеля) путей этой истории.
У Шеллинга представление о противоположности античности и христианства мы находим уже в «Философии искусства» (1804), где с его помощью объясняется становление соответствующих форм художественного сознания. В античности, говорит Шеллинг, религия рождается из мифологии, в христианстве, наоборот, мифология возникает на основе религии. Сама мифология понимается здесь реалистически: не как собрание сказок, но как символическое отражение в человеческом сознании вполне действительных потенций Абсолютного. Эти идеи получают дальнейшее развитие уже в статье «Философия и религия» (1804), где Шеллинг выдвигает тезис о единстве философского и религиозного мышления, рассматривает религиозную проблему как высшую задачу философии.
В духе растущего интереса к религиозной проблематике написаны «Исследования о сущности человеческой свободы и связанных с нею предметах» (1809), где Шеллинг рассматривает различные типы религиозного сознания (теизм, статический и динамический пантеизм) в их отношении к проблемам свободы, зла, теодицеи[51]. Когерентное согласование реальности свободы, зла как одного из возможных ее последствий, притом что Бог не оказывается виновником этого зла, возможно, по Шеллингу, только в случае динамического пантеизма, на основе различения в сфере божественного бытия Бога и Его природы, которая оказывается здесь тем «ничто», из которого творится мир[52].
В дальнейшем Шеллинг разрабатывает проект «положительной» философии, которая должна была быть одновременно христианской философией и философией христианства. Система позитивной философии складывается из четырех элементов: историко-философского введения, общей части – «Системы мировых эпох» и специальной части – «Философии мифологии» и «Философии откровения». В «Системе мировых эпох» Шеллинг выступает с критикой онтологического доказательства бытия Бога, которое, с его точки зрения, подменяет отношение свободного творения между Богом и миром отношением логического следования, христианское представление о личном, историчном Боге – безличной, пантеистической концепцией абсолютного[53]. Переход из сферы логически возможного в сферу исторически действительного возможен только через опыт «свершения мира», в котором раскрывается свободное действие Бога как его причины, как «Господа бытия»[54]. Моменты божественной жизни могут быть поняты как «миросозидающие потенции», определяющие собой смену качественно отличных друг от друга времен, эпох. Бог осуществляет свое сверхсубстанциальное единство через множественность потенций. Такое понимание Бога Шеллинг называет «монотеизмом» и противопоставляет его политеизму (отрицающему единство Бога), теизму (утверждающему Его отвлеченную единственность) и пантеизму (утверждающему субстанциальное всеединство)[55].
Полный круг философии религии включает, по Шеллингу, рассмотрение трех основных форм религиозного сознания: естественной религии (мифологии), сверхъестественной религии (откровения) и философской религии, возникающей из философского понимания и истолкования первых двух[56]. Систематизируя различные точки зрения на мифологию, Шеллинг приходит к выводу, что мифологические представления должны мыслиться как «необходимые произведения человеческого сознания», «содержание древнейшей истории»[57], закономерное развитие которых от относительного монотеизма через политеизм к монотеизму истинному создает условия возможности откровения, т. е. свободного действия Бога на это сознание, реализованного в личности Христа. Цель философии откровения – не создание спекулятивной догматики, не доказательство истинности христианства, но понимание христианства в его самобытности, т. е. в единстве доктринального и исторического в нем[58].
Легко увидеть основные темы шеллинговской философии в философии русской[59]: историзм; критика рационализма; критика «теизма» – т. е. того схоластического (неважно, томистского или вольфианского) богословия, которое Шеллинг изучал в университете и которое преподавалось и в наших академиях; установление взаимосвязи философского и религиозного сознания; принцип «динамического пантеизма»; оправдание «мифа»; позитивное в целом истолкование религий древности не как простой совокупности заблуждений, а как необходимой подготовки христианского откровения; идея «философской религии», которая истолковывалась русскими мыслителями весьма различно: и как необходимость философского оправдания «веры отцов», и как идея «нового религиозного сознания», синтеза языческой мифологии и христианского откровения.
Все эти темы разрабатывались русскими философами начиная с П. Я. Чаадаева и славянофилов, однако это не означало вторичности русской философии по отношению к шеллингианству. В самом деле, Шеллинг, проделавший колоссальную работу по преобразованию господствующих онтологических схем и главным образом принципа единства бытия и мышления, вряд ли вполне представлял себе объем дальнейших исследований: обоснование и развитие нового подхода, его последствия для таких философских дисциплин, как эстетика, философия религии и философия истории, культуры. Многие представители русской метафизики, действуя в этом направлении, могли бы повторить вслед за П. Я. Чаадаевым: «Следуя за Вами по Вашим возвышенным путям, мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда приходили Вы»[60]. В русской мысли сходные интуиции намечались уже со времен Г. С. Сковороды, и поздняя философия Шеллинга сыграла в их реализации скорее значение катализатора.
Подводя итог, можно сказать, что Шеллинг указал возможность новых путей в философии религии, а русские мыслители вполне своеобразно перевели ее из возможности в действительность.
Иначе складывалось отношение русских мыслителей к Гегелю, философия которого, с одной стороны, казалось бы, покончила с философской критикой религии как предрассудка и обмана, развернутой эпохой Просвещения, а с другой – сама стала источником новых форм атеистической мысли и породила «религию человекобожества», преодолению которой как в личном, так и в теоретическом плане русские религиозные мыслители должны были отдать немало сил.
Именно Гегель представил философию религии как существенную часть всеобъемлющей философской системы. У него она предстала как «мыслящее рассмотрение религии», которому «надлежит показать необходимость религии в себе и для себя»[61] – как философская дисциплина с особым предметом, структурой и историей.
Согласно Гегелю, высшие формы человеческого духа: искусство, религия и философия – имеют одно и то же, но различными способами данное, содержание – Абсолютное, Бога. Вместе с тем именно философское спекулятивное осмысление религии составляет, по Гегелю, «истину всей истории религиозного сознания»[62]. В конечном счете, именно философия постигает Абсолютное наиболее адекватным Его природе образом – через мышление. Однако тем самым и сама философия приобретает религиозное измерение: «Философия сама есть так же богослужение, религия, ибо она, по существу, не что иное, как тот же отказ от субъективных домыслов и мнений в своем занятии Богом»[63].
С этой точки зрения противоположность и даже враждебность философии и религии – не более чем подлежащий снятию момент в истории их взаимоотношений, когда философия выступает в виде рассудочной конечной рефлексии, а религия в форме «бессодержательной набожности». Истина же их взаимоотношения состоит, согласно Гегелю, в единстве их содержания при различии форм его постижения[64].
Идеи Гегеля были с энтузиазмом восприняты в России начиная с 30-х гг. XIX в.[65] Не подлежит сомнению, что его понимание философии религии – как в отношении ее статуса, так и содержательно – оказало сильное воздействие на русских мыслителей. Некоторые из них (славянофилы, Вл. Соловьев), с одной стороны, активно использовали диалектическую методологию немецкого философа, с другой – вслед за Шеллингом столь же активно критиковали его чрезмерный или «отвлеченный», с их точки зрения, рационализм.
Вместе с тем, русское гегельянство в лице П. А. Бакунина, Б. Н. Чичерина и др. становится весьма значительным направлением русской метафизической мысли. Параллельно этому другая часть русских мыслителей – М. А. Бакунин, А. И. Герцен, К. Д. Кавелин, В. Г. Белинский – приняла активное участие в становлении движения младогегельянцев. Решающим моментом их духовного развития стало (так же как и для Маркса и Энгельса, например) восприятие «Сущности христианства» Л. Фейербаха, которое предопределило и их общий теоретический взгляд на религию как на преходящую и иллюзорную форму общественного сознания, и их личное крайне негативное отношение к ней[66]. На этой основе возникает русский атеизм, который и как определенная религиозно-метафизическая позиция, и как своеобразная философия религии, на протяжении долгого времени был главным оппонентом религиозной метафизики.
Следует, по-видимому, согласиться с С. Н. Булгаковым, увидевшим именно в Л. Фейербахе основной исток и позитивистской, и марксистской, и ницшеанской концепции религии[67]. Очевидно, что именно полемика с ними и с их русскими производными играла определяющую роль в становлении метафизической антиредукционистской философии религии в России на протяжении всего рассматриваемого в настоящей работе периода. Потребность вывести христианство из-под огня атеистической критики была важным стимулом в предпринятом здесь переосмыслении основных религиозных понятий и представлений. Выше уже указывалось, что русским философам удалось создать своего рода «возвратный механизм», превращающий обсуждение критических аргументов в адрес христианства и религии вообще в мощное средство укрепления религиозной традиции. В то же время отметим, что одним из последствий этой борьбы стало возникновение более рафинированных форм атеистического сознания, оказавших значительное влияние на западную философию. В дальнейшем этот процесс будет рассмотрен более подробно.
Вышесказанное не следует воспринимать как указание на вторичность русской мысли в философии вообще и в философии религии в частности. Речь идет о том, чтобы указать место, занимаемое ею в общем процессе становления философии религии. Прежде всего мне хотелось указать здесь на те общие идеи, более или менее активное восприятие и оригинальное развитие которых осуществлялось в русской метафизике XIX–XX вв. как вполне самостоятельной интеллектуальной традиции, решавшей свои собственные задачи и обладавшей собственной логикой становления.
37
В силу этого весьма странной представляется попытка В. К. Шохина ограничить античную предысторию философии религии только платоновским «Евтифроном», который сам, разумеется, возникает в рамках определенной традиции – традиции противопоставления отрефлектированной философской религиозности (включающей в себя и философию религии) и безотчетной народной и жреческой веры (см.: Шохин. Исторический генезис… С. 64–65).
38
Григорий Богослов, свт. Собрание творений: В 2 т. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1994. Т. 1. С. 528.
39
Там же. С. 535.
40
См., напр.: Иустин Философ. Апология 1. 20–25 // Раннехристианские церковные писатели. М., 1990. С. 141–146.
41
Григорий Богослов, свт. Указ. соч. С. 528.
42
О философски значимой этимологической работе, проделанной в античности Цицероном, а в раннем христианстве – Лактанцием, блж. Августином, Исидором Севильским, см. Шохин. Исторический генезис… С. 65–68.
43
Представляется, что эти общие или специальные богословские моменты сыграли более значительную роль в становлении философии религии (в частности, и в России), чем тематические рассуждения Фомы на тему «религия» (см.: Шохин. Исторический генезис… С. 68–71), т. к. именно на их основе возникло то понимание «религии», которое стало предметом исследующего, критического или апологетического обсуждения в дальнейшей истории философии.
44
Патрик де Лобье. Три града. Социальное учение христианства. СПб., 2001. С. 50–56; Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М., 1992. С. 10–11.
45
О ее формировании и судьбе см. более подробно: Вдовина Г.В. Естественная теология в схоластике Средневековья и раннего Нового времени // Философия религии: Альманах. Вып. 1. С. 302–321.
46
Шохин. Исторический генезис… С. 75.
47
См., напр.: Бурмистров К. Каббала в космогонии русских масонов конца XVIII в. // Россия и Гнозис. Материалы конф. М., ВГБИЛ, 21–23 апреля 2003 г. М.: Рудомино, 2004. С. 95–102; Эндель М. Оригинальные каббалистические концепции в масонском кодексе «О сфирот» (кон. XVIII) // Тирош. Труды по иудаике. Вып. 5. М., 2001. С. 37–50.
48
Кант И. Религия в пределах только разума // Трактаты. СПб., 1996. С. 263.
49
Как это было представлено в известной статье А. В. Ахутина «София и черт». Здесь же см. перечисление работ отечественных исследователей, занимавшихся проблемой «Кант в русской философии» в советское время (Ахутин А.В. София и черт. С. 449). К этому перечислению следует добавить: Кант и философия в России. М., 1994.
50
Весьма значительные интерпретации творчества Канта представили (не говоря уже о таком явлении как русское неокантианство, которое по понятным причинам остается за пределами моего изложения) П. Д. Юркевич, В. С. Соловьев, Л. М. Лопатин, кн. С.Н. и Е. Н. Трубецкие, Н. О. Лосский, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков и др.
51
Шеллинг Ф. В.Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с нею предметах // Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 86–158, здесь с. 91, 97–98, 103–104.
52
Там же. С. 107–108.
53
Шеллинг Ф. В.Й. Система мировых эпох. Томск, 1999. С. 51.
54
Там же. С. 169.
55
Там же. С. 277–283.
56
Шеллинг Ф. В.Й. Введение в философию мифологии // Соч. Т. 2. С. 367–372.
57
Там же. С. 361.
58
Шеллинг Ф. В.Й. Философия откровения. Т. 1. СПб., 2000. С. 249.
59
О восприятии идей и личности Ф. В. Й. Шеллинга в России см. подробнее: Философия Шеллинга в России. СПб., 1998; Шеллинг: Pro et contra. СПб., 2001.
60
Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 2. М., 1991. С. 75.
61
Гегель Г. В.Ф. Философия религии. М., 1976. Т. 1. С. 223, 207.
62
Коротких В.И. col1_0 // Религиоведение: Энциклопедический словарь. М., 2006. С. 230.
63
Гегель Г. В.Ф. Философия религии. Т. 1. С. 220.
64
Гегель Г. В.Ф. Философия духа. М., 1956. С. 354–355.
65
Подробнее см.: Чижевский Д. Гегель в России. СПб., 2007.
66
См.: Булгаков С.Н. Душевная драма Герцена // Соч.: В 2 т. Т. 2: Избр. статьи. М., 1993. С. 95–130, здесь, с. 98. Ср.: Герцен А.И. Былое и думы // Соч. Т. 5. М., 1956. С. 24.
67
Булгаков С.Н. Религия человекобожества у Л. Фейербаха // Булгаков С.Н. Два града. СПб., 1997. С. 15–50.