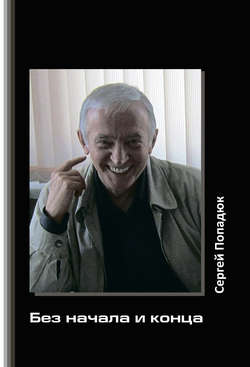Читать книгу Без начала и конца - Сергей Попадюк - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1973
Эрик Булатов
ОглавлениеХудожники обычно ужасно скучны – большинство из них стремится вас уверить, что они больше философы, чем художники.
Чаплин. Моя биография.
А тот, кто вознамерился бы искать ответ на кардинальный вопрос в самосознании современных художников, рискует заблудиться в мелком кустарнике ложных и истинных самоопределений.
Зедльмайр. Революция современного искусства.
Пять лет назад, в марте 68-го, я посетил его мастерскую. Это была уже вторая моя встреча с ним. Первая – состоялась ровно на десять лет раньше, когда Елена Семеновна Махлак привела меня к нему, чтобы он оценил юное пятнадцатилетнее дарование, только что поступившее в художественную школу, но внешне он почти не изменился с тех пор: тот же круглый лоб, предваряющий худое лицо, те же темные глаза и узкий маленький рот. Не изменилась и манера говорить. В тот раз картины висели на стенах и стояли у стен – унылый серенький импрессионизм, тогдашний предел «левизны» в советской живописи; теперь картин было гораздо больше, и он снимал их со стеллажа, плотно – от пола до потолка – забитого ими.
Я увидел натюрморты с цветами, эманация которых заставляла содрогаться, с зелеными драпировками (или чем-то похожим на драпировки), глянцевитыми и сочными, как кожица перца, закрученными и затягивающими в водоворот складок, как в пропасти, выдыхающие красноватый яд из своих глубин. Здесь были неясные воспоминания, реализованные с беспощадной аналитической конкретностью: женщина, чуть уклонившаяся от предназначенной ей вертикали и пересеченная дымчатой черной полосой, схематические силуэты мужчин в котелках, пунктирные линии, красные и льдинистые просветы… Была большая картина с тонкой черной линией, проведенной по линейке от края до края точно посередине белого холста, была и другая – с линией, проведенной по диагонали, из угла в угол. Все это называлось «абстрактный экспрессионизм».
– Искусство сейчас находится в поиске, – рассуждал Булатов, доставая работы со стеллажа и одну за другой ставя их на мольберт перед нами. – Идеал Возрождения устарел: человек – центр Вселенной, картина – ящик без передней стенки и т. д. Вещь, реальная вещь обладает эстетической ценностью. Поп-арт сыграл, мне кажется, большую роль, но и он устарел. Вот я пишу натюрморт: цветы на фоне стены. Стена не имеет бесконечного продолжения во все стороны, она ограничена. Почему же я должен изображать ее так, словно, кроме нее, нет ничего? За стеной шумят соседи, в коридоре плачет ребенок, позади меня кровать, а за всем этим – другое пространство… Это и есть реальность. Имею ли я право исчерпывать этот мир его видимостью? Емкости, выразительности искусство должно учиться у плаката, дорожного знака, наклейки на банке. Железнодорожный плакат – ну, хоть этот: «Хождение по путям опасно для жизни», – вот, по-моему, идеал. (Ха! «по путям». По путям сердца своего…) У меня была большая коллекция таких плакатов, но куда-то пропала… На Западе сейчас экспериментируют, ищут. Вазарелли в Париже сам продавал билеты на свою выставку. Люди заходили, а там – пусто, голые стены. Он продавал им право на соучастие в творческом акте. Искусство и есть действительное происшествие, созданная ситуация, акт, в котором участвуют все присутствующие. Что такое хэппенинг, знаете? Люди созваниваются с художником, собираются у него. По жребию делятся на две группы, активную и пассивную. Активная может делать с пассивной все, что захочет, таково условие хэппенинга: связывают, раздевают, упаковывают в мешки, доставляют на какую-нибудь станцию метро, на стройплощадку, за город и там бросают. Пусть выпутываются, как могут. Создана ситуация! На следующий вечер партнеры меняются местами… Я сейчас экзистенциалистов читаю. Слово какое-то… тормозящее. Так и хочется сказать, по прирожденной вредности: экзисте-национализм… А у нас – критик Лившиц, единственное достоинство которого – уникальная принципиальность. Он, видите ли, всегда находился в некоторой оппозиции к властям, даже отсидел в свое время. Но взглядов своих не переменил, напротив: с пеной у рта доказывает сейчас то же, что доказывал в двадцатых годах. Тогда-то оно, может, и хорошо было, но с тех пор успело протухнуть… И есть еще Дымшиц – полная противоположность и постоянный противник Лившица. Этот, наоборот, всегда менялся вместе с линией партии: сегодня одно, завтра другое… Так тот этого обзывает беспринципным хамелеоном, а этот того – принципиальным дураком. Не знаю, что хуже… И все-таки наша передовая печать заметно прогрессирует. Статью Щербакова в «Октябре» читали? Художник такой – Щербаков. Написал-то не он, конечно, он двух слов связать не может… Очень знаменательная статья. Написана в каком-то грустном, я бы сказал, элегическом тоне. Этот… Щербаков или как его там? грустно признает, что формализм, к сожалению, живуч (раньше писали, что он не имеет никаких корней) и широко распространен (раньше писали, что он пропагандируется только отъявленными западными негодяями). Так этот… ну, скажем так – Щербаков – призывает оберегать соцреализм, пока его не поглотили сорняки формализма. Понимаете?
Хранить под стеклянным колпаком, как какую-нибудь орхидею. А негодяи произрастают себе, хотя никто их не бережет и все поносят…
– Ты сейчас много работаешь, Эрик?
– Даже и к телефону не подхожу. Маму прошу говорить всем, что меня нет дома.
– Живешь, не живя?
– Да разве то – жизнь? Кажимость, а не жизнь.
Поздно вечером, возвращаясь домой от Булатова, продуваемый ледяным ветром в своей куртке, я думал о том, что, наверное, ничего не понимаю в искусстве. Ведь настоящее понимание связано в первую очередь с современным искусством, а знать историю – это доступно любому педанту. Но, во всяком случае, опять я убедился, что в таком искусстве нет для меня места.
Ему представлялось, что он в тупике, что он родился и начал творить в тот период истории искусства, который будущие поколения назовут «художественной пустыней» и предпочтут попросту забыть.
Фаулз. Башня черного дерева.
* * *
18.03.1973. Джазовый концерт в Институте физики. Первым выступало трио Игоря Бриля. Прошло по крайней мере минут десять, прежде чем я понял, что они уже играют, а не настраивают инструменты. Один из них мучился с контрабасом, ударник конвульсивно приплясывал на своей табуретке и весь ходуном ходил, но как-то безрезультатно; только пианист (сам Бриль) был на что-то похож, но остальные, по-моему, ему мешали. Дело наладилось, когда вышел Алексей Зубов с саксофоном, и был даже очень приличный момент, когда саксофонист изогнулся, причудливо подчеркнув изгиб своего инструмента, извлекая из него очень высокие, пронзительные ноты, а все остальные застыли в одинаково динамичных, косых позах, поддерживая вопль саксофона нарастающим, как сердцебиение, ритмом, и публика разразилась аплодисментами, а потом сразу всё успокоилось, и они, продолжая играть, переглянулись между собой – мимолетно, но радостно переглянулись, – и стало ясно, что у них получилось и они как профессионалы горды своей удачей.
Но самое главное началось, когда появился квартет Николая Громина (три гитары и ударник). Сам Громин играл стоя, отгородившись от публики зажмуренными веками, врастая в музыку всем своим белесым, безбровым, розовым и взмокшим лицом («Прямо раздеваются ребята, прямо кожу с себя сдирают!» – восторженно шептал сидевший рядом со мной
Сэв), и по музыке, в которой не было ни одного пустого места, каждый момент которой был результатом переживания, совершавшегося здесь, на наших глазах, и по тому, как они время от времени взглядывали друг на друга – внимательно, чуть рассеянно, весело и строго, – чувствовалось, что вот-вот, сейчас, придет что-то совсем настоящее, что каждый из них своим путем, через свое переживание, достигнет его и они не просто сольются в нем, а возникнет нечто новое, чего не было ни у кого в отдельности, возникнет само собой, легкое, раскованное, освобожденное от индивидуальных усилий, а они только помогают ему родиться, и вот оно приходит, и длится, и уже, кажется, дальше нельзя, и все-таки еще немного, и тут Громин широко и ясно вдруг открывает глаза, передавая солирование партнеру.
А потом был джем сейшн, продолжавшийся полтора часа, с тремя солистами: труба и два саксофона. Они играли то по очереди, то по двое, то все вместе. За их спинами ударник из квартета Громина уступил место ударнику из трио Бриля, ни на мгновение не прерывая позванивающей ниточки ритма, а Бриля за роялем сменил какой-то бледный мальчик, вышедший прямо из публики. Солисты разворачивали импровизацию, развешивали ее, как сеть, на торчащих колышках ритма, и каждый следующий, подхватив последнюю фразу партнера, нес ее дальше, крутил, вертел и делал из нее совсем другое, а потом точно так же поступали с его результатом, и я вдруг понял, что джаз – это как иконопись: есть исходная мелодия, гармония, определенный рисунок тактов, есть дисциплина ритма, а с другой стороны – набор джазовых штампов; все остальное зависит от исполнителя, от его таланта, мастерства, душевной зрелости и умения включиться, настроиться, отдаться музыке вот сейчас, здесь, перед публикой, которая моментально отличит подлинную глубину от подделки.
Когда импровизация кончилась, ведущий (Баташов) представил бледного мальчика:
– Это человек, которого все вы, несомненно, знаете… Леня Чижик!
Зал зааплодировал, а Леня спокойно спросил:
– Что сыграем?
Из зала закричали:
– Что вчера играл!
– «Очи черные!»
– Надоело! Леня, «Зеленый берег»!
Леня сел за рояль и подарил нам целый час прекрасной импровизации.
Не прошлое цепляется за меня, а я цепляюсь за свое прошлое. Вся моя натура организована таким образом, что настоящий момент почти нисколько ее не затрагивает. Я постоянно обретаюсь где-нибудь в другом месте – не там, где мое тело.
Эта неопределенность прошлого, позволяющая обрабатывать его и даже придавать желаемую форму, и есть причина того, что иные люди с богатым воображением предпочитают быть историками, а не романистами или рассказчиками.
А.Мачадо. Хуан де Майрена.
В сущности, я был бы идеальным историком, если бы мои кровные интересы не были так сосредоточены в рамках собственной жизни.
Но применительно к науке, которая меня занимает, за мной, по крайней мере, то преимущество, что никогда ни один человек, знающий и понимающий свой предмет, не рассматривал его доскональнее, чем я – свой, и в этом смысле я самый ученый человек из всех живущих на свете…
Монтень. Опыты. III. 13.
Только сейчас, перевалив за тридцать, я понял наконец определяющую черту моего характера. Это – неуверенность в себе. Ей противостоит слепое упрямство. (Упрямство – на виду, оно заслоняет собой неуверенность.) Между этими доминирующими крайностями располагаются все остальные черты, менее определенные, расплывчатые, непостоянные. Это – нюансы, всего понемногу, – в том же составе, что и у других людей. Но их неповторимая, индивидуальная комбинация задается именно указанным основным противоречием.
Главное – найти такое противоречие, поскольку обычно в человеческом поведении оно нераспознаваемо. Обычно выпирает какая-нибудь второстепенная черта, находящаяся поблизости от одного из полюсов и сбивающая с толку. Поэтому в каждом встреченном человеке я ищу нечто противоположное тому впечатлению, которое он производит.
Прямая противоположность тому, что говорят о делах и людях, часто и есть истинная правда о них.
Лабрюйер. Характеры.
Я имею в виду не самое первое, цельное впечатление, ибо оно-то как раз почти всегда верное, но оно так мимолетно, что мы почти сразу и упускаем его. Я говорю о впечатлении постоянном, производимом выпирающею чертою, которой человек, чаще всего бессознательно, прикрывает свою подлинную сущность.
Быть может, мы знаем о людях лишь то, что они устраняют в себе, что им сущностно чуждо. Если ты добр, значит, в душе у тебя держится злоба. Если ты блистаешь, если ты весь исходишь молниями и вспышками – все это потому, что тоска, ничтожество, глупость тебя не покидают.
Валери. Смесь.
Это сознательно или бессознательно создаваемое впечатление есть нормальная защитная реакция организма на окружающий хаос жизни.
* * *
Очень хороший человек – мой сын. Человек, с пеленок начисто лишенный эгоизма. Поэтому к моей любви к нему примешивается какое-то щемящее, больное чувство. Я вижу, что ему нет места в этом мире. Я вижу, что мы вырождаемся. Вырождение ведь не обязательно сказывается умственной отсталостью или немощью тела. Главный признак вырождения – утрата инстинкта самосохранения.
Мальчик мой любимый! Я бы с радостью уничтожил для тебя этот мир, ей-богу, он тебя не стоит. Я бы уничтожил его, если бы мог. Но и создать для тебя я ничего не могу. Для меня ведь тоже нет в нем места.
* * *
Нет, нет! Не надо обманывать себя! Не надо терзать себя сожалениями о якобы погубленном во мне художнике. Никакого художника не было; во всяком случае, его возможности как художника были настолько ниже моего понимания, что и говорить о нем не стоит. Никогда бы не достиг он того, что мое понимание сочло бы искусством, а не раскрашиванием.
Хотя – черт знает! – может быть, упорным, безостановочным трудом мне удалось бы все же прорвать эту таинственную пленку в моей психике, которую я постоянно мучительно ощущаю и которая день ото дня становится все толще – окостеневает.
* * *
Евреи воюют с арабами. Поскольку мы (т. е. наше правительство) поддерживаем арабов, народ переосмысливает события в анекдотах.
Линия фронта. Сидят евреи в своих окопах, арабы – в своих. Евреи кричат арабам:
– Эй, Али, где ты там?
Тот высовывается:
– Я здесь!
Бац! – и нет Али.
Решили арабы перехватить уловку.
Кричат:
– Абрам! Эй, Абрам!
Абрам, не двигаясь с места:
– А кто меня зовет?
– Это я, Хамид.
Бац! – и нет Хамида.
* * *
Пенсон. Это сосед такой у нас был – Пенсон, суетливый старик, оркестрант. На трубе, кажется, играл. Потом эмигрировал в Израиль. Теперь, наверное, когда евреи поднимаются в атаку – там, в аравийских песках, – он шагает впереди, с оркестром, наяривающим марш «Прощание славянки».
* * *
Перечитал Толстого «Что такое искусство», которую раньше всерьез не принимал, – поразительно! Поразительна прежде всего страсть, сила, мощь отрицания. Ведь это написано семидесятилетним старцем! Ведь человеку свойственно смиряться… А тут – какое уж, к черту, смирение! – человек один становится на пути толпы, причем толпы не какой-нибудь, а «образованной», «передовой», и просто, без затей, на основе лишь здравого смысла, смахивает всех ее наиболее задушевных идолов. «Знать истину нелегко, – говорит Герцен, – но все же легче, нежели высказывать ее, когда она не совпадает с общим мнением».
Да как вы! Можно ль против всех!
Да почему вы? стыд и смех.
Грибоедов. Горе от ума. IV. 7.
Поразителен всеобъемлющий характер отрицания, направленного не на отдельные частности, а на весь порядок, весь строй жизни. По-видимому, только русская жизнь могла выкормить этот гений отрицания, который лежит в основе всей нашей литературы и время от времени мощно вулканирует (Аввакум – Радищев – Толстой) и который на другом полюсе этой жизни оборачивается горами развалин, потоками крови, самоистреблением на каждом шагу так называемого прогресса.
Но, кроме того, предвосхищение сегодняшних аспектов искусства, например, его информативной функции, его знаковой (подобно языку) природы, диалектики качества и новаторства и т. д. Главное, Лев без колебания отбрасывает наиболее сомнительное, хотя и наиболее употребительное по отношению к искусству понятие прекрасного, без которого не обходится, кажется, ни одна эстетика. (««Прекрасное в себе» такая же химера, как и весь идеализм», – подтверждает Ницше25.) Да и вся концепция построена просто и ясно, хотя для достижения этой ясности приходится отрубать от себя самое дорогое; эту безжалостную последовательность почему-то принято снисходительно называть «толстовством». Мы вообще привыкли оценивать любую теорию практически, по ее применимости к жизни. Отсюда и выходит, что один «ошибался», другой «недопонимал», как будто в истории орудовала компания двоечников, как сказано в одном хорошем фильме.
Но судить великих людей с жалкой точки зрения общественной пользы значит не понимать их. Может быть, именно то, что из них нельзя извлечь никакой пользы, свидетельствует об их величии…
Ницше. Сумерки кумиров. IX. 50.
Не ошибался только Маркс, да и то Ленин его «развивал». Что это за развитие, если из постройки один за другим вынуты почти все составлявшие ее камни? А у Лысого Гангстера от марксизма осталась одна фразеология. И это противоестественное скрещивание философии с политикой стало крупнейшим мифом нашего времени, определяющим бездумный, дремучий, самодовольный нигилизм по отношению к истории человеческой мысли, полностью вытоптанной большевиками под себя. Так и Толстой ценен для нас только как «зеркало русской революции».
* * *
Но говоря об отрицании как о лейтмотиве русской литературы, надо постоянно помнить, что при всей его универсальности (которая, кстати сказать, даже не снилась всяким там философствующим Мефистофелям) оно никогда не опускалось до мертвящего цинизма. Оно всегда обладало огромной живой силой, потому что осуществлялось во имя конкретной правды, тем более ослепительной, чем чернее была действительность, среди которой вспыхивала эта правда. Оно всегда было отрицанием существующего во всем его объеме – отрицанием, устремленным в будущее, – тоже во всем его объеме, т. е. в будущее «вообще», хотя каждый из носителей этой правды твердо, истово верил в реальность и близость этого будущего. «Великие художники русские, – говорит Блок. – погружались во мрак, но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. Каждый из них, как весь народ, выносивший их под сердцем, скрежетал зубами во мраке, отчаянье, часто злобе. Но они знали, что рано или поздно все будет по-новому, потому что жизнь прекрасна».
Величайшая подлость – говорить о них только как о художниках, снисходительно отмахиваясь от всего того, что составляло живой нерв этой художественности, – от их религиозного (не церковного, а именно религиозного в чистом, толстовском, смысле) сознания26. Величайшая подлость – высокомерно судить высказанную ими правду с «высот» исторического прагматизма (виноват! – материализма) и прагматически соотносить эту правду с той бесконечной неправдой, в которой мы живем, которую мы обречены молча глотать день за днем в качестве того самого «светлого будущего», о котором мечтали все предшествующие поколения.
…Потому что попытка сделать удачу и историческую реализацию, имманентное осуществление, критерием истинности и осмысленности сама по себе несостоятельна. История и все историческое по природе своей таково, что никакие совершенные осуществления в временном их потоке – невозможны.
Бердяев. Смысл истории.
Мысль, теория, мировоззрение (как и произведения искусства) могут быть судимы лишь в двух аспектах: в аспекте своей новизны, т. е. количества привнесенной в мир информации, и в аспекте своей организованности, т. е. достигнутого уровня структуры. Но не в отношении к нашему мнению как к истине в последней инстанции! Тем более что наше мнение о нашей действительности не находит никакого основания в самой этой действительности, и если наше магическое заклинание «практика – критерий истины» до сих пор не обернулось против нас же (вернее, за нас), то этим мы обязаны только тому, что в нем совершенно отсутствует тот смысл, который мы в него вкладываем.