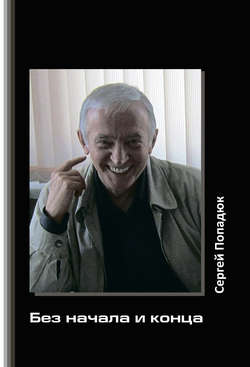Читать книгу Без начала и конца - Сергей Попадюк - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1975
Фиолетовое облако
ОглавлениеЯ так и вижу перед собой эту сцену (хотя детали ее, понятно, скрываются от меня в тумане). Я вижу, как повозка, запряженная двумя быками, останавливается у пограничного поста на берегу притока Вэйхэ в предгорьях Циньлин-Шаня. Граница государства Чжоу: голо, безлюдно. Шаткий висячий мост переброшен над рекой. Приезжий, выйдя из повозки, складывает руки за спиной и смотрит на противоположный берег, на далекие, едва видные в дымке горы. Он маленького роста, тщедушный; широкие, свисающие с плеч одежды, раздуваемые безудержным на просторе ветром, только подчеркивают бесплотность тела. Жидкие пряди усов в углах рта шевелятся от ветра. Глаза внимательны и отрешенно-спокойны.
Начальник заставы плавной походкой приближается к нему и принимает подорожную. Повозку он углядел еще издали, когда она только появилась с востока, со стороны старой запустевшей столицы Хао, и сразу отметил странность: сопровождающее повозку фиолетовое облако. Сам приезжий тоже странен. Облик его явно не соответствует крестьянской запряжке. Но и на чиновника не похож: просторный халат неопределенного цвета, деревянные сандалии… Ни бамбукового веера, ни веничка из лосиного хвоста, ни шапочки. И совершенно седой, хотя и не старый.
– Туда? – спрашивает начальник заставы, махнув рукой за реку. – Зачем? Наших там уже нет, только кочевники.
Приезжий молчит, и начальник мысленно прикидывает: за горой Высокая Защита, если повернуть направо, к северо-западу, через 420 ли будет гора Ми, исток реки Данынуй, а если повернуть налево, к юго-западу, через 400 ли достигнешь горы Куньлунь; дальше, к западу, на расстоянии 350 ли, находится Нефритовая гора, где в своем дворце из драгоценных камней на берегу Яшмового пруда живет Хозяйка Сиваиму. Туда, что ли? Начальник заставы меняет тактику. Почтительно, как младший старшему, он задает вопрос о причинах, побудивших главного хранителя государственных архивов сбросить шапку чиновника и покинуть столичный город Ло. Приехавший отвечает кратко, но вежливо. В этих немногословных ответах слышится, однако, нечто такое, что офицер взглядывает на бывшего чиновника с удивлением. Теперь он задает другие вопросы – не по службе; что-то новое в нем, то, о чем он понятия не имел, заставляет его задавать их. Приехавший отвечает просто, легко, каждый ответ звучит исчерпывающе и все же вызывает следующий вопрос. Они уже медленно идут по берегу, не замечая, как удаляются от пограничного поста, – офицер и Учитель; ветер треплет их одежды.
То, что говорит бывший чиновник, поражает офицера неведомой безграничной свободой, но при этом он с удивлением чувствует, что эта свобода – в нем самом и всегда была с ним, только забылась, а теперь будто отдернута в душе какая-то завеса, скрывавшая давно знакомое.
– Ходить, не ведая куда, останавливаться, не ведая зачем, сжиматься и разжиматься вместе со всеми вещами, плыть с ними на одной волне, – слышит офицер. И он продолжает задавать вопросы, помогая шире и шире отдергивать завесу. И постепенно начинает понимать, что, хотя спрашивает он о разных вещах, хотя собеседник каждый раз отвечает точно на поставленный вопрос, говорит он, в сущности, об одном. К этому одному сводит приезжий все, о чем бы ни спрашивал его офицер, все, о чем он мог бы спросить, даже если бы спрашивал тысячу лет. Проще некуда, но запомнить, пересказать невозможно: оно возникает и существует помимо слов, слова сами по себе не имеют значения.
– Мои слова очень легко понять, им очень легко следовать, – говорит тот, кого офицер уже называет про себя Старцем (лао-цзы). – Но Поднебесная не может понять их…
И тогда офицер осторожно спрашивает о записях. Ведь если в школах, говорит он, долбят наизусть «Лунь юй», если вся Поднебесная живет, сверяясь с этими текстами…
– В Поднебесной, – возражает собеседник, – нет ничего, что можно было бы сравнить с учением, не прибегающим к словам, и пользой от недеяния.
Офицер смотрит на него. Он понимает, что настал его звездный час, что случай столкнул его с великим, единственным мудрецом, даожэнем, и что он последний, кто видит и слушает его; вот сейчас Старец уйдет на запад, в пустоту, исчезнет навсегда, растворится в этой Великой пустоте, на пороге которой несет свою службу скромный начальник самой дальней пограничной заставы, и из миллионов жителей приходящего в упадок, разваливающегося государства он, этот офицер, – единственный, кто держит в своих руках будущее. Он понимает все это и потому говорит почтительно, но твердо. Собеседник вежливо наклоняет голову. Он – как капля, стекающая по стеклу, как поток, журчащий в береговом тростнике, как ветер, пригибающий этот тростник. Они возвращаются к мосту, и здесь, в караульном помещении, в окружении сменившихся с поста солдат, бывший чиновник Ли Дань, опустившись на циновку, макая расщепленную палочку в тушь, мелкими иероглифами записывает свои знаменитые пять тысяч слов – сгусток учения, которому суждено пережить века, – учения о естественном пути вещей.
Ли Дань передает записи офицеру и, раскланявшись, выходит из караульного помещения. Он садится в повозку, повозка трогается с места и медленно вкатывается на висячий мост, подрагивающий под порывами ветра. Начальник пограничной стражи смотрит ей вслед. Повозка ползет по прогибающимся мосткам над быстрой мутной водой. В повозке сидит Лао-цзы, мыслитель, каких мало в истории. Повозка въезжает на противоположный берег и скрывается в фиолетовом облаке.
* * *
Может быть, было не так. Наверняка было совсем не так, как я себе это вообразил40. Не в этом дело. Может быть, офицер задним числом, по памяти, сам записал то, что запомнилось ему из разговора с Ли Данем. Может быть, пограничники потребовали у отъезжающего за границу чиновника уплаты какой-нибудь пошлины, и он, чтобы отвязаться, оставил им свои записи. Может быть, как считают некоторые историки, вообще ничего не было, и трактат о дао и дэ написан не Лао-цзы, а кем-то другим. Дело не в этом.
Эта сцена, разумеется, – вымысел, что, впрочем, нисколько не ослабляет ее интереса и, стало быть, ее реальности. Мне неведомо, что такое исторический факт; все, чего более нет, – ложно.
Валери. Тетради.
Важно то, что тот, кто написал этот трактат, не убеждает и не доказывает, а – заражает.
…И я не забуду изумления, сказочного восторга, с каким читал эту книгу все в ней казалось мне чуждым и в то же время верным, предугаданным, долгожданным.
Гессе. Библиотека мировой литературы.
Мудрец не пользуется приемами научного изложения. Не в логике сила. К черту логику! Вместо того чтобы углубляться в неизвестное (дао) хитросплетениями коротких логических зигзагов, с тем чтобы в конце концов оказаться перед необходимостью начать все сначала и с той же гарантией успеха, вместо того чтобы в утешение себе выдавать эти попытки за «все более полное и более точное знание», не лучше ли сразу брать неизвестное во всей его бесконечной неизреченной глубине – в художественном образе?
…У нас совершенно утратилась аксиома: что истина – поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии.
Достоевский, Дневник писателя.
«Почему эстетический подход так часто ведет к успеху? Неужели для того, чтобы радовать физиков? – спрашивает Мэррей Гелл-Манн. – Думается, ответ может быть лишь один: природа вечно прекрасна».